Владимир Солоухин - Паша
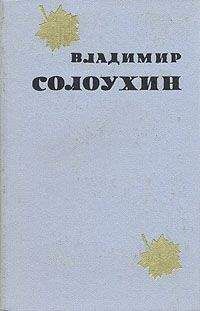
Обзор книги Владимир Солоухин - Паша
Владимир Солоухин
ПАША
Весной, как только обогреется воздух, а вместе с ним и наш деревенский, закрытый на зиму, промороженный за долгие зимние месяцы дом, мы переезжаем в деревню. Это случается, смотря по погоде, то в середине апреля, то в начале мая. Холодом, пустотой, нежилым духом встречает дом. Воздух в комнатах застоялся, на все осела сероватая липкая пыль. Скорее топим печку, скорее включаем электрические обогреватели, скорее перетираем все, перетрясаем, моем, сушим, проветриваем. А если уже майское тепло, то скорее распахиваем все окна.
Надо еще перетаскать из машины в дом вещи, книги, провиант, надо еще в нетерпении пройтись по саду (по садишку, если выражаться точнее) и увидеть, что волчье лыко, пересаженное мною из леса, уже отцвело, и пожалеть, что не застал его чудесного цветения, когда не весь еще растаял снег, и вот рядом со снегом красуются на кусте яркие цветы, похожие на цветы сирени. Но теперь последние числа апреля, цветы волчьего лыка уже увядают, они потемнели и ссохлись. Что ж… Нельзя захватить в жизни все прекрасное, что-нибудь да приходится пропускать. Впереди цветение вишенья, рябины, одуванчиков, шиповника, ландышей… Все еще впереди. Вот только весен остается меньше и меньше.
То, что около нашего дома появилась машина, видно всем, и, значит, все уже знают, что мы приехали. Но Паши пока не видно. По своей тактичности она не придет, пока мы разбираемся с дороги, трем и моем, суетимся и кружимся. Но наконец все в порядке. Жить можно. Аврал окончен, мы садимся за стол. Теперь можно и даже нужно никуда не спешить, переключившись на более плавное, более естественное для человека течение времени. Сев за стол, я взглядываю в окно и вижу, что в тот же самый момент на улице появляется Паша. Опираясь на суковатую палку и немного волоча одну ногу, обходя весеннюю грязь, она направляется к нашему дому. Раньше было нельзя. Люди с дороги, им некогда. Нехорошо мешать им. А теперь, когда прибрались, — можно. Как Паша узнает этот нужный момент, я не ведаю, но вот мы сели за стол, я наливаю себе рюмку с дороги — и Паша появляется на улице.
Когда я писал «Каплю росы» и рассказывал о жителях нашего села, то не пропустил ни одного олепинского жителя, хотя бы и в грудном возрасте, хотя бы и живущего на стороне. Как же вышло, что для Паши не нашлось места в «Капле росы»? Не говорю о целой главе, но хотя бы упомянуть, назвать. Мол, существует такая олепинская жительница, Прасковья Павловна. Судьба у нее такая-то, живет в таком-то доме…
Из-за дома главным образом и получился пробел. Я в «Капле росы» обходил дома, а у Паши своего дома нет.
Но вот она сама на пороге, и можно ее теперь разглядеть. Хотел сейчас про нее сказать: «старуха», семидесятилетняя старуха, худощавая старуха, хромая старуха, с морщинистым и смуглым лицом старуха, но чувствую, что «старуха» применительно к Паше не подходит и не звучит. Не то чтобы она выглядела моложе своих лет или слишком энергична и деятельна, — не знаю уж, чем объяснить, но слово «старуха» как-то не подходит для Паши.
А между тем это действительно старая семидесятилетняя женщина, худощавая, со смугловатым, в сеточке мелких морщин, лицом. Свое лицо она носит как-то так, что нижняя его часть выдвинута вперед и приподнята, а затылок откинут назад. Поза Нефертити, сказал бы я, если бы речь шла не о нашей олепинской хромой, никогда и в самые молодые годы не блиставшей красотой и к тому же временами заговаривающейся старухе (упрямое слово встало-таки на свое место!).
Одета она во что бог послал, в ситцевое, темное платье, старинный, с острыми плечиками жакет, поверх платья еще и темный фартук. Но однажды я нарочно пригляделся к Пашиной одежде и увидел, что все на ней стираное, заштопанное, оставляющее впечатление опрятности. И это после зимования в Агашиной избушке. Другой бы вылез оттуда по весне в коросте, пропитанный разными запахами. Поистине, чтобы содержать себя в таком порядке в подобных условиях, нужна либо огромная воля к жизни, либо озаренность идеей, либо уж опрятность и порядочность, ставшие натурой человека. Никаких высоких идей у Паши, конечно, нет, — значит, берем третье.
При разговоре Паша производит впечатление глуховатой. Иногда приходится переспрашивать ее по три раза и кричать. Но это происходит не от дефекта слуха, а оттого, что Паша как соловей или глухарь: когда сама говорит, то ничего постороннего уже не слышит.
Паша одна во всей нашей округе говорит московским говором, на «а», приобретенным в детстве, в дореволюционной еще Москве. Среди поголовно окающих жителей ее говор выделяется заметно резко. Тем резче и заметнее московское произношение Паши, что человеку, впервые увидевшему и услышавшему ее, наверно, странно встретить чистейшую московскую речь в обстановке Агашиной халупы, в устах безусловной аборигенки. Паша появляется на нашем пороге, стоит, опираясь на палку и обводя всех улыбающимся, теплым, как бы даже удивленным и восторженным взглядом.
— Здравствуй, Паша! — кричим мы ей от стола.
Паша начинает говорить сама по себе, а не в ответ на наши слова:
— Да… Все харашо. Все па-доброму. Розочка. Деточки. Харашо. На улице теперь тёпленько. Да… Скоро грядки капать. Все па-доброму.
— Проходи, Паша, садись. Рюмочку-то налить ли?
— Рюмочку можно. Я люблю винцо, вот ей-богу (слово «богу» она выговаривает через чистое «г» и, когда произносит эту свою присловицу, сама себе обязательно подхихикнет). Тетя Поля умерла, царство небесное. Мы с ней выпивали. Паша, гаварит, схади купи четвертиночку. Мы выпьем, галава меньше балит. Вот ей-богу. Старому челавеку винцо палезно. И тетя Поля любила. Винцо, ано кровь согревает. У старого челавека кровь уж халодная, а рюмочку выпьешь — и харашо. Мы с тетей Полей частенько выпивали, вот ей-богу.
Я наливал Паше рюмку, и Паша долго глядела на нее, держа в руке, улыбалась и пила маленькими глоточками. Ела она очень мало, обломит хлебушек, соблазнится ломтиком московской колбасы, возьмет конфетку.
После рюмки глаза ее делались живее, улыбка еще добрее и умиротвореннее. Перебить или остановить ее рассказ становилось еще труднее. Но все же громкими переспросами удавалось навести ее разговор на ту или иную стезю.
Нужно сказать, что мать ее, Александра, была «жиличкой». Разные существовали в Средней России отхожие промыслы. Уходили в Москву плотничать, извозчиками, половыми в трактиры, женщины иногда шли в «жилички», то есть в прислуги, в кухарки, по-современному — в домработницы. Не знаю, где как, но у нас в селе к жиличкам относились с некоторой долей презрения и смотрели на них свысока, как на людей чем-то неполноценных. Женщина, побывавшая в жиличках, становилась, если возвращалась в деревню, как бы отверженной. Эта отверженность часто переходила и на детей, поэтому получалось, что если женщина пошла в жилички, то она в некотором роде начинала собой династию жиличек. Дочь шла по ее стопам, а у дочери — дочь, а если сын, то все равно пристраивался в Москве.
В нашем селе зародилась только одна такая династия. В прислугах жила мать Александры, прислугой сделалась и Александра — мать Паши.
— Да… Скоро грядки капать. Земличка сагреется. Начнет расти всякая травка. Все па-доброму, па-харошему.
— Паша, все забываю, как звали того фабриканта, у которого вы с матерью жили?
— Степанида Ивановна винцо не любила. А мне хочется другой раз, вот ей-богу.
— Я говорю, как фабриканта звали?
— Чего? — как бы просыпалась Паша.
— Фабриканта, у которого вы жили?
— Ну и что? Теперь там фабрика Красина.
— Как звали, я говорю.
— Карл Иванович, — отвечала Паша, словно с упреком. — Как это так не знать? Карл Иванович.
— Что ж у него, семья была?
Но вопросов уже не требовалось. Паша, так сказать, выходила на орбиту, и нам оставалось только слушать.
— Карл Иванович был фабрикант. Фабрику содержал. Сам он был англичанин, а фабрику содержал в Москве. Мама жила у него в прислугах, и я с ней. Куда ж мне было деваться? Я была молоденькая, девочка еще, и выделил он нам в своем доме комнатку, вот ей-богу. И Карлу Ивановичу хорошо. Получалось у него две прислуги. Постель убрать, подмести. Это все я могла. Как же так, жить в доме и не делать ничего. Это не полагается. Это нельзя. У людей должно быть все па-доброму, па-харошему. А Карл Иванович хитрый был, вот ей-богу. Стану я подметать у него в спальной, вижу — что такое? — денежка на полу валяется, двадцать копеек. По тем временам двадцать копеек большие деньги. Ну, я положу денежку на комод. Брать нельзя. Как же так, чужую собственность брать, никак нельзя. На другой день опять денежка, а то две денежки, вот ей-богу. Я маме и говорю: денежка валяется на ковре. Мама поглядела и смеется. Это, говорит, Карл Иванович тебя проверяет. А я не брала. Как это можно чужую собственность брать. Никак нельзя, не полагается. Карл Иванович увидит денежку на комоде, тоже смеется. Молодец, говорит, Паша. Вот ей-богу. Дом у него был хорошо обставлен. Цветы, ковры, граммофон, посуда тонкая. Потом Карл Иванович мне говорит: как советуешь, Паша, хочу жениться. Вот ей-богу. Сам смеется. Я говорю: вы мужчина видный, почему же вам не жениться. Тут вскоре и новая барыня появилась. Интересная такая, чистенькая дамочка. Екатерина Михайловна. Белокурая, высокая, глаза строгие. Как посмотрела на меня, я испугалась. Вот ей-богу. Сперва она так приезжала, дом посмотреть. Потом они поженились. Все как полагается. Как у добрых людей. Все па-доброму, па-харошему. Тут Карл Иванович говорит моей маме: Александра, говорит, придется тебе уходить. Я тобой был доволен, но Екатерина Михайловна, молодая хозяйка, хочет новую прислугу иметь. Ну что же, мама ему отвечает, вы хозяин, ваша и воля.



