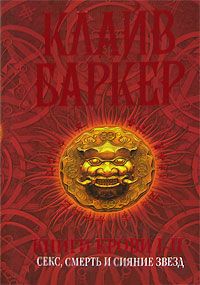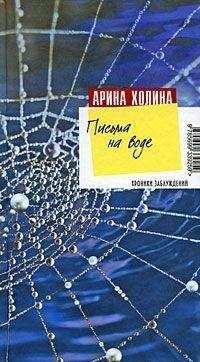Константин Коничев - Из моей копилки

Обзор книги Константин Коничев - Из моей копилки
Константин Коничев
Из моей копилки
ИЗ МОЕЙ КОПИЛКИ
В ДЕТСТВЕ у меня была копилка. Жестянка из-под гарного масла.
Сверху я сделал прорезь и опускал в нее грошики и копейки, которые изредка перепадали мне от кого-либо из благодетелей. Иногда накапливалось копеек до тридцати, и тогда сестра моего опекуна, тетка Клавдя, производила подсчет и полностью забирала мое богатство.
Накопленный «капитал» поступал впрок, но не на пряники и леденцы, – у меня появлялась новая, ситцевая с цветочками рубашонка. Без копилки было бы трудно сгоревать и ее.
И вот под старость осенила мою седую голову добрая мысль: а не заняться ли мне воспоминаниями своего прошлого, не соорудить ли копилку коротких записей и посмотреть, не выйдет ли из этой затеи новая рубаха?..
1. САМОЕ ПЕРВОЕ
ЧТО я запомнил? Смутно, очень смутно в памяти. Года два мне было, не больше.
Мой отец и мать жили безраздельно в большой семье дяди Михаилы, который потом, после смерти моих родителей, стал моим опекуном. Как-то мать, держа меня на руках, пугала, показывая в промерзшие окна:
– Вува, вува там, ух, страшно!..
Под словом «вува» подразумевался на младенческом языке самый настоящий волк. Отец мой не был заправским охотником, но ружьишко имел. Наскоро, крепким зарядом он начинил ружье. Вышел – и под окнами здорово бабахнуло.
– Тятя вуву убил, тятя вуву убил, – поторопилась мама предсказать удачу отцовского выстрела.
Волк остался цел и убежал. Ружье разорвало вдоль по стволу. Порохом опалило у отца лоб. Отец выругался и швырнул ружье на полати. А потом он из него сделал пистолет и стрелял в ворота сеновала.
Днем мать на чунках-салазках возила меня по снегу, показывала волчий след и обмятые места, где сидели волки. Мне это не казалось страшным, удивительным…
2. УТОЧКА ЛЕСОВАЯ
МАТЬ МОЯ была рукодельницей. Плела кружева. Зарабатывала пятнадцать копеек в день. Утром и вечером она «обряжала» тогда, в большой семье, коров и телятишек. После утреннего обряда, напоив скотину и задав ей корму, она душистым мылом до белизны промывала руки, садилась за пяльцы. Плела до вечера. Брякали ивовые лощеные коклюшки. Пухла под платком затейливого рисунка прошва. Вечером, чтобы я не мешал матери, кривая тетка Клавдя, не умевшая плести кружев, укладывала меня на лавке спать. Мне не спалось. Тетка припугивала меня страшной сказкой своей выдумки о том, как волки съели одного несчастного мальца за то, что он не спал.
Разве уснешь после такой сказки? Клавдя шла на последнюю хитрость. Она неизменно запевала давно мне известную песенку про уточку лесовую:
Уточка лесовая,
Где ты ночесь ночевала?
Там, там на болотце,
В пригородке на заводце.
Шли мужики с Комаровца,
Высекли по пруточку,
Сделали по гудочку.
Вы, гудки, не гудите,
Костюшеньку не будите.
Андели божьи летают,
Сон его охраняют.
Гудошники, не гудите,
Подальше от нас уходите.
И опять, если глаза мои не смыкались, Клавдя затягивала:
Уточка лесовая,
Где ты вчера ночевала?..
Других колыбельных песен она не знала. А мне было достаточно и этой, чтобы на всю жизнь запомнить и по сей день не забыть.
3. ЛЕПЕСТКИ-ЛЕПЕСТОЧКИ…
ПОДОШЛА весна. Я впервые в жизни увидел и навсегда запомнил гремящий по камням весенний ручей. Он извивался, кружился над глубокими омутами-бочагами. Белоснежная пена хлопьями грудилась у берегов. Мне рано еще было думать о том, где начинается, куда уходит наш ручеек, именуемый Лебзовкой. Об этом стал знать не скоро…
В начале того лета в соседней деревушке Боровиково собирался народ. Ждали икону, Семигороднюю божью мать с монахами.
Люди старые и малые выстроились в очередь. И стали на колени. Моя мать тоже встала в ряд со всеми. Она склонилась на колени, я впереди в длинной рубашонке, без штанишек стоял почти вровень с матерью. Когда проносили икону, я видел только вышитые полотенца да цветы на стеклянной раме. Все это промелькнуло над моей головой. Богородицу я не приметил. Потом слышал пение.
У нарядного попа была в руках брызгалка, иначе – «кропило», черное, волосатое. Поп сунул мне под нос крест и задел по лицу волосяной брызгалкой.
Но интереснее всего в тот день было другое… Мать взяла меня на руки и понесла домой. Дошли до перегороды. Над нами свешивались прутья яблони. Мать поставила меня на лужайку, отдышалась. Пригнула прутик, отломила маленькую веточку.
– Гляди, какие лепестки-лепесточки, цветики-цветочки. А скоро яблочки будут, сладенькие, кислые и горькие…
Яблоневая веточка и посейчас у меня перед глазами. С веточкой мать принесла меня в избу. Отец ворчал:
– Зачем отломила? Не пустоцвет. Глянь, три яблока сгубила…
– Я это с горькой яблони, – оправдывалась мать, – не жалей для паренька, пусть полюбуется, поиграет. Ведь никаких игрушек. Хоть бы конька ему сделал, меленку или еще что…
Я любовался веточкой и лепетал:
– Лепестки-лепесточки, цветики-цветочки…
Кажется, это была первая радость.
4. КРЫЛО САТАНЫ
СНАЧАЛА был испуг, потом страх. Так, кажется, случилось со мной. Первого испуга и страха я не запомнил и представляю их себе весьма смутно по рассказам взрослых. Было это так: на паперти нашей приходской церкви при входе висела огромная картина «Страшного суда». На верующих она производила тяжкое впечатление изображением наказаний в аду.
Грешники корчились в муках, праведники в светлых ризах окружали триединую троицу и, скрестив руки, отдыхали от земных трудов.
Меня испугал сатана. Намалеванный зеленой краской, он, огромный, рогатый, с ужасной клыкастой пастью, держал на коленях голого Иуду, обреченного на муки вечные за предательство.
Конечно, я в ту свою младенческую пору не знал тонкостей священного писания и внушительной сути картины. Мать поднесла меня к ней, наверно, не ради того, чтобы меня устрашить.
– Вон там боженька, ангелы да святые, – показывая выше своей головы, говорила мать. – А это, ух, какой сатана!.. Сатана, настоящий сатана, он учит ругаться, вино пить, в карты играть, а потом мучит людей за это в аду…
Перечисленные матерью грехи все полностью относились к прегрешениям моего отца. Может быть, поэтому и врезался в мою ничем не затронутую память сатана, как самая яркая деталь картины. Особенно испугало меня крыло сатаны: огромное, черное с острыми колючками. Крыло было одно, для второго у художника не хватило места.
Обедня с нарядным попом, тепленькое причастье, кусочек просфоры и все блестящее и сверкающее не задержалось в тот день в моей памяти так, как сатана с крылом…
Всем домашним на их расспросы, что я видел в божьем храме, отвечал:
– Видел сатану, учит вино пить, в карты играть…
На какое-то время позабыл я о сатане. Увлекся нехитрыми игрушками, которые делал на скорую руку отец. А делать он умел все, что ему в голову придет: гармошку из кулька, да такую, что попискивает; мельницу-толчею, да такую, что лошади боятся ее стука; мог и пильщика с пилой сделать, и двух кузнецов, поочередно бьющих молотками по наковальне. Все это меня увлекало и радовало.
Однажды кто-то чужой пришел к нам в дождливый день с мокрым зонтом. Борода у него вьюном, глаза злые, губы толстые, как кубышки пряжи… Незнакомец захотел подшутить, напугать меня. Он прикусил бороду, направил на меня зонт, рявкнул и распахнул зонт во всю ширь. Колючки зонта напомнили мне черное крыло сатаны. Я от страха закричал:
– Сатана! Сатана!..
Мой испуганный вид и столь недетские выкрики смутили незнакомого пришельца. Удивился и отец, почему я так закричал. Зонт, напоминающий крыло сатаны, поставили под полати сохнуть. Я боялся даже в тот угол смотреть. А когда пришелец сел с моим отцом за стол и выставил из кармана бутылку водки, я вспомнил правдивые наставления матери:
– Сатана и есть, учит вино пить, в карты играть…
– Вот оно откуда! – догадался отец. – Слышь, мать, до чего доводит ребенка твое «богословье»!
Таким было мое первое восприятие живописи.
5. ПРЯНИКИ-СУСЛЕНИКИ
КОНЕЧНО, я не помню, как меня мать вскармливала малое время своей тощей грудью. Но по слухам представляю себе и по примерам других малышей знаю, как «отсаживали» детишек от материнского питания.
Матери смазывали соски горчицей, и после этого ребенок отвыкал от кормления грудью, переходил безропотно на другую, более грубую диету.
Отец соорудил мне рогоушку. Я ее помню преотлично. Коровий рог, опиленный с двух концов. На конец рога надевается коровья соска с малым отверстием для высасывания молока. В раструб рога вливается молоко. Вот и все нехитрое приспособление. А если по бедности молока нет? Подается тогда ребенку жеванина – прожеванный из материнского или бабушкиного рта хлеб.
Мы, деревенская детвора, подрастали, становились неприхотливыми, жизнестойкими, поедавшими все, что можно и чего нельзя. С первой весенней зеленью щавель, или кислицу по-нашему, ели с корня. На тропках искали какую-то хрустящую на зубах травку-муравку и тоже ели. Полевой дикий лук уминали с солью и хлебом. А что говорить, когда поспевали голубика, морошка, черника, земляника, малина и смородина в лесу, горох и репа – в поле! Тут нашей радости не было предела. Какой хороший летний бог, он все дает. И какой недобрый зимний Никола: все покрыто снегом, ни ягод, ни кислицы – ничего.