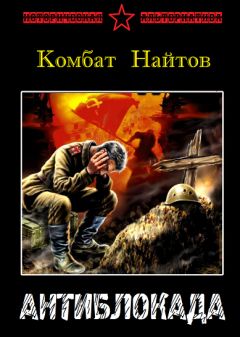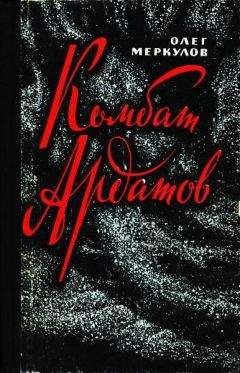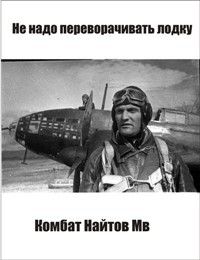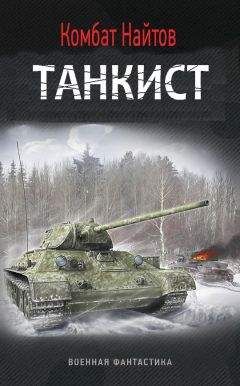Николай Серов - Комбат

Обзор книги Николай Серов - Комбат
Николай Серов
КОМБАТ
Повести
Комбат
1
В хрустком от мороза лесу было тихо. И, наверное, прежде случавшийся здесь путник радовался бы, что ветер не сечет лицо и не треплет деревья, застилая глаза снежною сумятицей. Но теперь люди, затаившись, высматривали и выслушивали — не выдаст ли кто себя звуком или неосторожным движением. И тогда гремел выстрел, а то и целая торопливая пальба, и платилось жизнями за нарушение лесного извечного покоя.
Старший лейтенант Тарасов, шедший проверить посты боевого охранения, выдвинутые впереди обороны его батальона, двигался, утаивая дыхание, осторожно переваливая тело с лыжи на лыжу, чтобы не издать даже шелеста. Все кругом было как-то расплывчато, белесо, мертвенно-неподвижно. Небо, не темное и высокое, а тоже беловатое, без единой звездочки, точно село на землю и, смешавшись с ночною непроглядностью серовато-белою пеленою, не оттеняло предметы, а еще помогало смазывать их настолько, что уже в десяти шагах трудно было различить, что это: сугроб, маленькое заснеженное дерево или притаившийся человек в маскхалате.
Какой-то непонятный то ли шорох, то ли вздох, а может, неосторожный звук чьего-то движения мгновенно заставил его замереть, взяв автомат на изготовку. Одна лыжа глубоко осела в снег, другая была высоко, но, хотя вновь стало тихо, он терпеливо ждал, не замечая, что стоять неудобно. Звук повторился, и слышней всего сверху от ели, у которой притаился комбат. Это прошуршали потревоженные снежинки, слетавшие вниз с ветки на ветку. Ветер, будто тоже чего-то побаиваясь, крадучись входил в лес.
«Фу-ты!» — и облегченно, и сердито подумал Тарасов, проведя ладонью по лбу.
Такая ночь, когда все тонуло точно в молоке, пугала не его одного. Иногда то в одном, то в другом месте, и ближе и далеко, чаще над вражьей обороной, чертили небо ракеты: кто-то, испугавшись собственного страха, хотел вырвать у темноты, высветлить перед собою клочок земли, по которому кралась к нему смерть. Случалось, слышалась захлебывающаяся, глуховатая очередь автомата или хлесткие, как удары пастушьего кнута, винтовочные выстрелы. Стреляли так, для острастки, для самоуспокоения. И ракеты, и стрельба не беспокоили Тарасова. Все это было привычно. Странно только отсюда, из долины, были видеть, как словно не с сопок вовсе, а вроде из самой плотной, туманной белизны неба зажигались вдруг неяркие, искрившиеся рваными краями огоньки ракет и, описав дугу, гасли в этой белизне, не в силах разорвать ее. Свету на землю от них было мало — одно мерцанье, как у светлячков на болоте; бояться обнаруженным этими ракетами было нечего, и он даже не приседал, когда светили с сопок рядом. Опасность могла ждать где-то вот тут, рядом, в долине, и он двинулся дальше все с тою же крадущейся настороженностью.
Привыклось представлять, что фронт — это изрезавшие землю окопы, блиндажи, доты, проволочные заграждения, ходы сообщения, изрытая снарядами и бомбами земля. Здесь, на севере, в глухих, всегда малолюдных местах, фронт был там, где на первый взгляд могло показаться, что ничего не было. Даже в яркий, солнечный день, когда каждая упавшая с дерева хвоинка на расстоянии была видна на снегу, люди, уже обвыкшиеся, десятки раз вышарившие глазами каждый кустик, каждое дерево, каждый камень, каждый увал и сугроб, каждый склон сопки, на которой был враг, в бинокль не вдруг могли обнаружить там какие-то признаки человека. Все казалось застывшим в извечной неприкосновенности. Люди и двигались, и строили укрепления и жилье так, чтобы ничем не выдать себя. После боев воронки от снарядов и мин зализывали метели, снегопады, поземка, и язв на земле не было видно. Одни только израненные, поломанные, покореженные деревья уродливостью своей в молчаливой скорби жаловались на свою судьбу…
При подлете к фронту днем видны были сверху в долинах идущие на лыжах и по дорогам без лыж, одинокие и группами люди, сани и обозы, дымки землянок на склоне сопок, шедшие, казалось, из земли, дорожки между землянками, тропинки к дорогам и прорубям на озерах. Но чем ближе к фронту, движения было меньше. Меньше было признаков жизни, и, где, казалось, и духом человеческим не пахнет — там и был фронт. Потом дальше, у противника, повторялось то же, только в обратном порядке: сначала все выглядело безжизненно, потом, чем дальше, тем больше движения.
Наша оборона и оборона врага шли по сопкам, пересекая долины и лощины меж ними. Они то сближались вплотную, то расходились довольно далеко. Все зависело от того, как близко стояли друг от друга занятые нами и противником сопки. Иногда они были рядом, иногда их разделяли широкие долины, болотистые низины, озера, и нейтральная полоса занимала порядочно места. В этой-то нейтральной полосе ночами и таились засады, секреты и посты боевого охранения, шарили подвижные отряды, крались разведчики.
Нейтральной полосой и шел сейчас комбат.
Здесь и жили, и воевали больше ночами. Ночами, гася разными приспособлениями искры из дымоходов, топили печурки, отогревались, сушились. Ночами подвозили и подносили боеприпасы и продовольствие, ночами особенно много людей дежурило в обороне. Ночами же старались возможно ближе подкрасться к противнику, чтобы внезапней атаковать, если намечался бой. Наши ходили в дело и ночью, фашисты же, видать, боялись ночного рукопашного боя и чаще на рассвете не раз вдруг кидались на нашу оборону, стараясь отбить то одну, то другую сопку повыше, чтобы всюду занять господствующее положение. Однако занятые нами, казавшиеся безжизненными сопки тотчас начинали посверкивать все густевшими вспышками выстрелов, там и тут вспыхивали фонтанчики гранатных взрывов, и эхо боя разносилось далеко и гулко. Это эхо было здесь настолько обманчиво, что не сразу разберешься, откуда шли звуки. Долины, как пустые бочки, по которым бьют палками, множили звук и, разливая, несли его в разные стороны, сбивая с толку, где шел бой. Наши дрались упорно, и чаще всего враг откатывался назад.
В боевых сводках о событиях здесь не говорилось почти ничего, разве обмолвятся короткой фразой: «Бои местного значения». Эти документы сухи. В них не написано о том, как мерзли, страдали и умирали солдаты наши. В них не найдешь и слова о том, как где-то далеко в России ежедневно лились слезы матерей, жен и детей по сыновьям своим, мужьям и отцам, которые положили тут свои головы…
Да, ночью здесь надо было держать ухо востро! Особенно в метель или в такую вот непробиваемую глазом хмурь. Совсем недавно вражеский отряд проник в тыл батальона и, вырезав в одной из землянок сонных бойцов, ушел. Вроде, все было продумано и предусмотрено, а вот не углядели. В метельную ночь это случилось, и следов не удалось найти.
— Ушами хлопаете, комбат! — гневно выговорил Тарасову командир полка. Но не этот выговор и неприятности, связанные с расследованием дела, а то, что из-за него, как он думал, напрасно погибли люди, особенно потрясло Тарасова. Он был молод, батальон принял недавно, не привык еще к новому своему положению и особенно старался сделать все как можно лучше — и на тебе!.. Он подал рапорт с просьбой освободить от командования батальоном.
— Бегством еще никто не оправдывался, — разорвав бумагу, недовольно сказал командир полка.
— Я не оправдания ищу. Просто считаю, что нельзя занимать место, не умея делать дело.
— Об этом рано судить. Сочтем нужным — не спросим, снимем.
Тарасов вместе с ротным (в который уж раз!) проверил надежность каждого метра обороны батальона.
Приняты были дополнительные меры охраны но ночам. Выставили еще посты и секреты, лощины меж сопок охранялись теперь тремя линиями засад. Но все это не успокаивало его, и сегодня он решил пройти за линию нашего охранения, подойти возможно ближе к противнику и оттуда попробовать незаметно пройти через нашу оборону, чтобы таким образом найти возможно где-то существующую лазейку. И забота о лучшем укреплении обороны, и постоянные проверки несения службы бойцами происходили не только от неспокойного его характера, не только оттого, что это было его обязанностью. Жило в нем после первых месяцев войны не чувство боязни, а состояние отбивающегося от нападения. Нервозное состояние какой-то настороженности в поступках. Невысказанное — а вдруг что-то опять не так? Он судил, что если бы каждый делал все, как должно, то и не произошло бы того, что произошло. Сюда, на север, он попал после госпиталя. Воевать начал почти на западной границе, потом долго пробивался с товарищами из окружения. Шли, отдирая от самого сердца каждый шаг, в глубь родной, подмятой врагом земли. Нагляделись всякого: и виселиц, и пожаров, и смертей, и детских трупов, и страданий беспомощных умирающих людей. Не выскажешь всего… И жажда отмщения, горячая, звавшая биться, уже въелась в него, но какая-то противная, не сломленная еще опаска все жила в нем, заставляя оглядываться да приноравливаться не к своим желаниям, а к тому, что враг может сделать. И бит уж был фашист под Москвой, и ободрились от этого, но то, что въелось в душу, вдруг не выживается. Случай с гибелью бойцов только обострил состояние напряженности, в которой жил комбат, заставив его впервые идти на свою оборону со стороны противника. Рисковое это было дело, но он считал — необходимое.