Владимир Амлинский - Ожидание
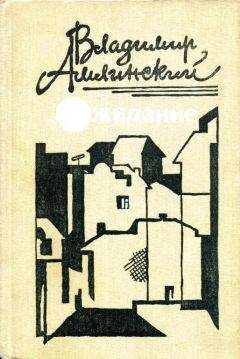
Обзор книги Владимир Амлинский - Ожидание
Ожидание
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Конец пятидесятых, начало шестидесятых годов было временем дебютов нового литературного поколения.
В 1958 году был напечатан мой первый рассказ «Станция первой любви». Он был замечен, потом неоднократно переиздан и на многие языки переведен. Но дело не в его достоинствах или недостатках, — не мне о них судить. Важно другое: он был связан с опытом моего поколения, герой пытался понять себя, понять, чего он хочет, а главное — что он м о ж е т в этой жизни. Что он может сделать и для себя, и для людей. А точнее, для людей и для себя…
С тех пор прошло уже четверть века. Мне повезло — я начал действительно молодым, как и многие другие мои литературные сверстники, товарищи по поколению. В ту пору особенно много ездил, работал коллектором в геологических экспедициях, спецкором в Сибири и Средней Азии. Я писал о геологах, о строителях, о современниках, работал, как принято говорить, на разном материале, но главным, как оказывается, самым трудным был материал собственной судьбы, попытка осмыслить собственный жизненный опыт, явившийся частью опыта моего поколения.
Это не значит, что написанное п р я м о отражает пережитое и увиденное мной… Вымысел переплетается с подлинным, есть и то, что было, казалось, с тобой и только с тобой, но на поверку это было и с другими; есть общность времени, социальных жизненных обстоятельств, поры душевного становления. Но иногда отвлекаешься от своего опыта, и что-то перенесенное, пережитое, прочувствованное поколением твоих отцов и дедов, воспринимается как пережитое именно тобой.
Как это происходит, объяснить трудно, да и не надо, — понять и осмыслить литературный процесс — дело критиков, дело же писателя — понять и ощутить процесс жизни, драматизм, печаль, радость ее каждого дня.
Ведь каждый день по-своему единствен.
Есть мастера вымысла, мастера сюжетной интриги. Порой им завидую, мне труднее сочинять, чем писать то, что было. Но то, что было — этого еще мало. Гораздо важнее и труднее написать к а к б ы л о. Через это «как было» просвечивают время и его особенности, проблемы, поиски.
Ловлю себя на том, что иной раз трудно заменить имя героя, его фамилию, берешь ту, что помнится в действительности, хотя, наверное, это неправильно, — в книге он живет другой жизнью, он уже не тот человек, которого знал, а персонаж, герой, характер.
И все-таки иногда имя многое говорит тебе, поэтому Борька Никитин, герой романа «Ремесло», так и остался Борькой Никитиным, судьбы реального человека и литературного героя похожи, я его не выдумывал, а вспоминал, воспроизводил, может быть, дополнял чем-то понятым мною много позже, чем в ту пору, когда мы были молодыми. И реальный человек, и литературный герой родились в волжском городе, учились в Москве в художественном вузе, стремились к максимальной правде и в жизни, и в искусстве. Оба они умерли молодыми, их детство совпало с войной, многим жизнь их обделила, но многое и дала, как сказано в дневниках Достоевского, «если не страдали, то не были и счастливы».
А они были счастливы, ибо занимались любимым делом и были любимы людьми, признание еще не пришло, но уже угадывалось, во всяком случае, одаренность их была явственна, самоотдача велика, жизнь наполненна, а известно, кто щедро отдает — тот много получает.
Мне хотелось показать, как счастлив и труден путь художника, когда он работает на полном пределе возможностей. В поиске самого точного, своего способа передать красоту и многообразие жизни.
Свой способ рожден традицией, трудом, талантом, личностным началом в человеке. Борька Никитин — художник, а Иван Лаврухин, герой «Возвращения брата» — гражданин без определенных занятий, ранее судимый… Но в детстве своем он побывал в немецком плену, прошел через огни, воды и медные трубы на долгом пути нравственного распрямления, возвращения к людям.
Он тоже был, тоже не придуман, сейчас работает на одной из сибирских строек. В свое время мы познакомились с ним, мне удалось помочь ему, до сих пор он пишет мне письма.
Интересная деталь: его подругу, девушку, которую он полюбил в романе, я придумал и дал ей имя Тамара. И совпало, — та, которую он в действительности встретил, его будущая жена, разделившая с ним тяготы его бурной, противоречивой жизни, тоже была Тамара, Тома.
Это не значит, что я слепо следовал всем событиям жизни моих героев, их биографиям. Нет, отнюдь, я не писал документальных повествований и давал волю своему воображению и памяти, вбирая в круг романа многое другое, казавшееся мне важным.
Я не понимаю деления прозы на городскую, деревенскую, военную. Проза затрагивает все: ты пишешь и город, и городок, и дальний поселок, и стройку… Но «у каждого поэта есть провинция», — как сказал когда-то Семен Гудзенко.
«Провинция» здесь звучит метафорически, это место, где рос, где созревала твоя душа. Моя провинция, пусть это не звучит парадоксом, — Москва. Смутно, скорее памятью родителей, помню ее довоенной. Помню ее в первый год войны до моей эвакуации, отчетливо помню послевоенную Москву, а потом пятидесятые годы, начало Черемушек, ее движение, расширение, рост.
Но моей «провинцией» в этом великом городе, в этом особом мире, именуемом Москвой, остаются Чистопрудные улицы, Дом политкаторжан в бывшем Машковом переулке, где жил еще мой дед, узник царских тюрем, делегат Лондонского съезда РСДРП, да что дед, эти улицы помнят шаги Горького и Чаплыгина, здесь, в этом же Машковом переулке, Ленин слушал пианиста Добровейна, рядом, только в другом веке, по мостовым Харитоньевского переулка гулял Пушкин. Мне дорога эта Москва, так много вобравшая от прошлого, так много обещающая будущему.
Я люблю ее писать. Запах весенней еще не запылившейся листвы в Замоскворечье и на Чистых прудах, дубравный шум Нескучного сада — уже на другом ее краю, голоса жителей, те, что прозвучали, и те, что звенят сегодня, — все это пребудет во мне навсегда…
Владимир Амлинский
Возвращение брата
РОМАН
ГЛАВА ПЕРВАЯ
За стол сели поздно — без немногого в полночь.
— Будто Новый год встречаем, — сказал Иван и усмехнулся.
— Очень правильное замечание, — сказал Вячеслав Павлович, разливая беленькую в рюмки. Разливал он не целясь, из неудобного положения, по диагонали с одного конца стола на другой, но ни капельки не пролил, рука, видать, была точная, тренированная, — Не Новый год наступает, а твоя, Иван, новая жизнь. — Он помолчал со значением, обвел глазами присутствующих и прибавил: — За что и предлагаю соответственно…
Подняли рюмки, чокнулись. Вячеслав Павлович, задержав на Иване взгляд, опрокинул, хрустнул огурцом, сказал как бы благословляя:
— Ну, давай, Иван.
Иван подержал на зубах леденящую, из погреба, чистую водку, давно он такой не пил, кивнул согласно, сам подумал: «Я уж давал, разве еще хотите?» И еще он подумал: «Как же называть мне этого человека, хозяина дома, пожилого, маленького ростом, с красным морщинистым лицом и с густыми, волнистыми, без единой сединки волосами, как же его называть, Вячеслава Павловича: отцом, батей или по-детски дядей Славой? — Иван мысленно даже чуть-чуть присюсюкнул. — Может, паханом его звать или уж просто по имени-отчеству?»
Человек этот давно, без малого двенадцать лет, был мужем его матери. Но только сегодня Ваня впервые увидел его воочию, по причине своего длительного отсутствия. От него были приветы в письмах; мать всегда приписывала: «Слава тебе привет шлет», «Слава тебе желает того и того-то», «Слава тебя поздравляет с праздником Великого Октября». Слава да Слава. Но это он матери Слава, а Ивану он кто?
Гостей было немного, два-три сослуживца по заводу, где Вячеслав Павлович служил главбухом, и подруги матери, верно, самые близкие. Да и к чему звать лишних, чужих людей, падких на новость да на интерес? Не обязательно всем в городе знать, откуда вернулся Иван, почему, зачем, на сколько. И не на сколько, а на этот раз навсегда. Навсегда? Кто его знает, может, и навсегда.
Второй тост предложил хозяин за свою подругу жизни, за мать Вани Наталью Михайловну. А ее за столом не было, она все хлопотала, все ходила из столовой в кухню, из кухни в столовую, все носила что-то, будто людей было не девять человек, а рота, на которую не напасешь ни выпивки, ни закуски, ни ложек, ни вилок, ни рюмок, ни тарелок.
Иван еще и не видел толком мать. На вокзале он только уткнулся в холодное ее лицо, потом повели в машину «газик», рассадили как-то порознь, неудобно, наспех; мать сидела на боковом сиденье с Вячеславом Павловичем и еще с кем-то, а Иван впереди, и он все оборачивался назад, а в машине было темно, и, когда они попадали в свет придорожного фонаря, он ловил ее лицо, а через секунду оно снова погружалось во мрак. Иногда он чувствовал ее прикосновение, она дотрагивалась до него, до его спины, плеча, словно стараясь убедиться, что это действительно он, сидит на переднем сиденье, курит и не исчез, не выскочил из машины в тот момент, когда они ехали по темным, уснувшим проселкам.


