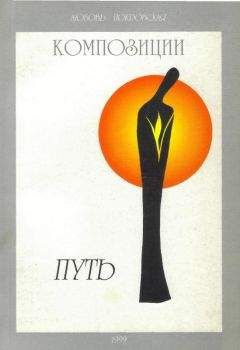Ольга Покровская - Булочник и Весна
Через несколько дней властью Пажкова Илья был зачислен в артель. При этом Михал Глебыч намеревался лично курировать успехи новобранца. «Как освоишься – напишешь мне Михаила Архангела! Я тебе потом покажу где», – заявил он Илье, чем привёл его в немалое замешательство.
И опять были рыжий бородач, на этот раз встретивший Илью благосклонно, и серый, закапанный побелкой храм, такой огромный и запущенный, пахнущий подвалом, что немыслимо было представить его в золоте пасхальной службы.
Миссия Пети, однако, удалась не вполне, или, может, это я испортил дело своей гордыней. Пажков решил придержать намеченные благодеяния. Илье дали шпатель и поставили выравнивать стену.
– А на самом деле ведь это без разницы! Можно и шпателем Царство Божие стяжать, и лобзиком! И хлебом, и мандолиной! – возражал Илья в ответ на мои проклятья по адресу Михал Глебыча. – Всё равно я до фрески ещё не дорос. Это ведь как надо жить, чтобы посметь в небесный мир вглядываться! К тому же я чужой тут. Пока ещё вникну! И наставника толком нет. Так, благословили формально. Да и братства как-то маловато между артельными…С тех пор сама собой у меня завелась привычка остановиться после работы у монастыря. Сырой, хотя и отапливаемый храм был огромен и пуст. Я оглядывал стены, туманные, прозрачно-серые, как крыло мотылька, – и вдруг на какой-нибудь уходящей под купол лестнице обнаруживал Илью с ведром штукатурки. Я окликал его, он спрыгивал на землю и радостно пачкал мою ладонь своей, вытертой предварительно о такую же грязную, как и рука, спецовку.
От этих частых визитов во мне появилось странное ощущение, будто бы я хожу в Храм. Конечно, в этом храме не было службы, да и ничего не было, кроме запаха подвала и стройки. Но я чувствовал, что большего и не потянул бы.
Смутился бы чем-нибудь и, плюнув, ушёл, тогда как при нынешних обстоятельствах мог наведываться хоть каждый день – вольно и попросту, к другу.
Если было уже поздно, Илья возвращался со мной в деревню. Выйдя из храма, мы обходили не спеша едва размеченный фонарями двор, жалели об уехавшем на родину Серго. За монастырской стеной я курил, а потом садились в машину.
Как-то спокойно мне становилось от этих прогулок, тихо, и уже начинало казаться, что и весь мир успокаивается. Вот пристроили Илью. Может быть, и все мы перезимуем, отоспим под снегом невзгоды и к весне заживём весело, без грехов.63 Из театра – с вещами
Брус и обломки мебели вывезли, фундамент сровняли с землёй, и дела мои в самом деле пошли на поправку. Вернулась прежняя жизнь, но на этот раз – свободная от изнуряющей цели. Моя личная история закончилась. Теперь я мог с чистой совестью раздать себя – пусть каждый возьмёт, что ему нужно. Чем меньше останется – тем легче идти. К сожалению, пока никто особо не претендовал на мои высвободившиеся ресурсы.
В деревню я возвращался поздно, уезжал рано, может быть, поэтому мне всё не удавалось пересечься с Тузиными. Петя утверждал, что в их доме – нескончаемая ссора и мрак. Добровольно упустивший свой шанс Николай Андреич замучил близких до слёз, но положить конец его тиранству Ирина была не способна. Ей всё хотелось, чтобы как-нибудь само это грянуло, взорвалось и разом освободило всех.
После подобных известий заходить к Туз иным в гости я опасался.
Однажды, вылезши из машины открыть ворота, я увидел на том конце улицы Николая Андреича. Он разглядывал и трогал расшатавшийся столбик своей калитки – не решив ещё, как можно его починить. Заметив меня, он бросил столб и двинулся навстречу – разделить со мной пьяную ненависть к жизни, напавшую на него с тех пор, как он отказался ехать в Москву.
– Сколько лет, сколько зим, дружище! Костя, вы мой герой! Конечно, это я вам подал пример, но вы стократ превзошли учителя! – воскликнул он, пожимая мне руку.
Я качнул головой, выражая сомнение в собственном героизме.
– А чего в деревне вас не видно? Дома жалко? Не жалейте! Я бы вот тоже рассобачил всё к чертям! – произнёс он, мельком оглянувшись на свою дачу, и по грубой, не артистической вовсе его интонации я почувствовал, что он говорит искренне. – Мне только сначала денег надо из Жанны выбить. Она мне должна за две постановки. А у меня машина не ездит – чинить не на что… Рассчитается – тогда поглядим. Тогда и мы в долгу не останемся! – И он улыбнулся с ничем не подслащённой злобой.
Как бывает под вышками электропередачи слышно потрескивание и воздух колюч, так вокруг Тузина било отчаянием. В условиях мокрой осени его состояние выглядело взрывоопасно. Мне было жалко его хорошей души, загнанной в плен дурных чувств.
– Я тут с Колей побалакал, – рассказывал он, – так он мне: уходи, говорит из своего балагана! Иди к нам в школу. А для творчества – вот те лес! Вот те поле! Гуляй да твори в голове! Голова, мол, это лучшие подмостки! Прямо, говорит, перед Господом Богом выступаешь, без посредников! Хорош Коля, а? Нравится вам?
Тузин усмехнулся.
– Так вот, представьте, я его в ответ спрашиваю: слыхал ли ты, Колечка, что человек – существо социальное? Не всякого устроит собственная голова, некоторым неплохо бы место в обществе. А он мне знаете как? Чего, говорит, в обществе! Ты на кладбище себе место найди! А то помрёшь – ушлют в тмутаракань!
Я кивнул. Ещё бы! Коля слишком знал состав лесной почвы, чтобы размениваться на «общественное».
Мне хотелось сказать Николаю Андреичу что-нибудь подкрепляющее, и я признался, что мой папа дал мне однажды простой совет: быть с собой потвёрже. Если вглядеться, то причина всей маяты как раз и есть в том, что я был слишком мягок с собой.
Моя откровенность не достигла цели, зато подстрелила гордость. Тузин полыхнул.
– Идите, Костя, пеките бублики! – сказал он, улыбнувшись с презрением, и я увидел, что бедный Николай Андреич находится ещё только на подступах к тому безобразию, которое уже вполне свершилось со мной.
На следующий день Тузин позвонил мне и деловым тоном спросил:
– Костя, вы в булочной? У меня к вам дело. Багажник у вас в машине свободен?
– Ну да, – ответил я, слегка удивившись.
– А вечер?
– Что вечер?
– Ну вечер, вечер сегодняшний! Свободен или нет? Мне бы надо переправить из театра кое-какие объёмные вещи. Может, подъедете к нам сюда вечерком, часиков в шесть?Прежде чем ехать в театр за тузинскими вещами, я решил позвонить Моте. После разгрома мы разговаривали с ней несколько раз по телефону, но пока что не виделись. Она встретила меня неласково. Её голос был надсажен и влажен – как после плача. Сегодняшнее увольнение Николая Андреича – он написал-таки заявление! – не оставляло шансов на выход пьесы. Кроме того, подходил к концу срок их спора с Петей. Оказывается, Мотя всерьёз намеревалась получить свой выигрыш и беспокоилась, как бы победа не сорвалась. Что собирается предпринять Тузин, она не знала, зато в красках описала мне скандал, случившийся сегодня поутру в директорской. Жанна Рамазановна не сочла нужным заплатить Тузину условленную сумму за постановки, отговорившись их якобы малым успехом. Жалкую её подачку Николай Андреич сей же миг, на глазах у узуриаторши, вручил Моте «на мороженое» и отправился паковать вещи.
Добравшись до театра, я двинулся прямиком в гримёрку с революционной надписью «Кубрик», вошёл в незапертую дверь и погрузился в плотный запах пыли, не дорожной и не древесной. Это была «умная» пыль хранилищ – музеев и библиотек. В её чуть заметной мге с лицом решительным и сосредоточенным орудовал отставной режиссёр. Рукава его белой сорочки были закатаны выше локтя, на лбу выступил пот. Он упихивал в пакет подушку.
– Что, действительно съезжаете? – сказал я, оглядев беспорядок.
– Да, – коротко отозвался Тузин и, увязав мешок, полез в бездонный шкаф. – Спасибо, Костя, что пришли. Коробочку подкиньте!
Я пробрался через завалы и подал ему картонный ящик. Складывая в него барахло, Тузин объяснил, что лишь часть реквизита принадлежит театру. Остальное понатаскано энтузиастами из дому, и в первую очередь им самим.Распихав по коробкам добро, Тузин плюхнулся на табурет и поднял истомлённые глаза:
– Ну что, Костя, взялись?
Мы подхватили, сколько смогли, и двинулись по пустому пространству театра. Нам не встретилось ни Моти, ни других артистов или сотрудников, ни собаки с кошкой, некогда обитавших в буфете. Как если бы перед лицом тузинского ухода все дружно пожелали спрятать глаза.
– А где ваша Рамазановна? Почему не провожает?
– Заползла под диван и дрожит – не подожгу ли я театр, – отвечал Николай Андреич, покосившись на директорскую дверь в торце коридора. – Хотя бы полчаса стресса должен я ей доставить!
Я был уверен, что он ошибается, – такие дамы не дрожат под диванами. И во вторую ходку, воспользовавшись тем, что Тузин ушёл вперёд, скинул у двери в директорскую коробки и заглянул. Долговязая женщина с выбеленными, коротко стриженными волосами, закинув ногу на ногу, сидела в кресле и грызла семечки. Шелуху она сплёвывала в стеклянную банку с окурками, поставленную на голое колено. На полу вокруг кресла было насорено. Услышав движение, она чуть повернула голову и направила на меня пустой взгляд чёрных, крепко накрашенных глаз. Я почувствовал, как подкатывает тошнота. Из-под этой краски и пустоты выпрастывалось существо, многократно превосходящее меня по жизненной мощи. Однако, судя по бессмысленному лузганью семечек, за которым я застукал её, увольнение Тузина всё же причинило Жанне Рамазановне некоторый дискомфорт.