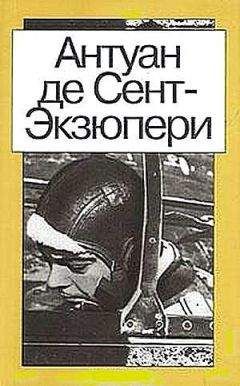Анатолий Михайлов - У нас в саду жулики (сборник)
2
Я спускаюсь по лестнице и выхожу на Пушкинскую. Напротив памятника Александру Сергеевичу, откинувшись на спинку скамейки, полулежит Глеб. Вместо кудлатой шевелюры – всклокоченные патлы, а на обрубленной фаланге пальца – уже не совсем свежий бинт.
Глеб открывает глаза и, пытаясь подняться, протягивает мне петушка. Не выпуская моей ладони, теперь стоит и качается. Все продолжая раскачиваться, хватает меня за рукав и уже на ходу, обернувшись, осеняет Александра Сергеевича крестом.
…Прямо на асфальте, исполняя обязанности рекламного агента, лежит бомж. Глеб останавливается, и мы заворачиваем в разливуху. И, к моему удивлению, Глеб как-то вмиг оживает.
Ему – сто пятьдесят и запивон. А закуси не надо.
– Возьми апельсиновый сок.
Нет, лучше стакан спрайта.
Ну, ладно, можно еще и закусь. Глебу понравилась ветчина.
– И еще, – говорю, – бутерброд с ветчиной.
Буфетчица улыбается. Неужели узнала? Ведь это Глеб Горбовский.
Я живу у вокзала.
В каждом поезде гость.
Тот привозит мне сало.
Этот – семечек горсть.
Правда, во времена Глеба этой разливухи еще и не было в помине. Но, значит, была другая.
Когда брали водку, теперь удивляется Глеб.
– А ты?
– Я, – объясняю, – потом. Дома.
Хотел помочь ему нести, но Глеб запротестовал. Он сам.
Спрайт не пошел, а водка уже проскочила.
Кивает на спрайт:
– Допей… я не заразный…
Достал из кармана платок и, накинув на «закусмон», аккуратно законсервировал.
Подумал и засунул в карман.
– Пригодится.
…Мы уже с ним в метро. Глеб вытаскивает удостоверение и, шатаясь, протягивает его дежурной.
Я поддерживаю Глеба за локоть:
– Он со мной.
Неужели не пропустит? Ведь это же Глеб Горбовский!
Человек уснул в метро,
обнимая склизь колонны…
Пропустила.
Глеб садится на ступеньки и тюкается головой о балюстраду. И откуда-то снизу металлический голос делает нам с Глебом замечание. Сидеть на ступеньках не положено.
При сходе с эскалатора приходится Глеба подхватывать. Как будто мешок, который может на ступеньках застрять. Сейчас рассыплется, и эскалатор остановится. И подойдет милиционер.
Мы стоим на платформе, и чтобы Глеб не свалился на рельсы, я его то и дело отодвигаю. Как непослушного малыша. Зато уже в вагоне сразу подталкиваю на свободное место. Глеб тут же плюхается на сиденье и закрывает глаза.
Коронованный под нулевку, прямо над Глебом, как с иголочки – задумчивый богатырь. (И рядом – с точно такой же прической – его двойник.)
Вдруг наклоняется и с шаловливым воплем «Хайль!» вскидывает вперед правую руку.
Глеб поднимает голову и как будто просыпается:
– Храни тебя, Господь!
Бритоголовый еще раз повторяет «Хайль!», и его двойник, словно приглашая присоединиться, заразительно хохочет.
Глеб опять поднимает голову:
– Говно… – и, насупившись, показывает кулак.
Пассажиры откладывают газеты и, в предвкушении надвигающейся опасности, обеспокоенно застывают.
Бритоголовый вытаскивает из-за пазухи наручник и, напоминая героя моего детства Бабона, двигает желваками скул.
Глеб еще раз поднимает голову и повторяет:
– Говно…
Бритоголовый надевает наручник себе на запястье и, сцепив свое запястье с поручнем, едет по нему, как по рельсу. Возвратившись обратно, неожиданно на одной руке повисает и, качаясь пудовыми башмаками, все с тем же воплем «Хайль!» теперь поворачивается ко мне.
Какое страшное лицо.
Глаза ночные – без просвета,
и губы налились свинцом…
Кому-то будет он отцом,
чье тело будет им согрето?
Он громко пьет из кружки пиво,
и жмется очередь тоскливо.
Диктор объявляет остановку, и опустившимся занавесом «веселые ребята» испаряются.
…Мы водружаемся на эскалатор, и Глеб опять садится на ступеньки. Только теперь уже не по ходу, а против движения. И механический голос опять делает нам замечание. Глеб нехотя поднимается и вдруг начинает петь.
– Очи черные… – хрипло выводит Глеб, – очи страстные…
И на другой стороне едущие нам навстречу зрители поворачивают головы…
Мы вываливаемся из метро, и, приобретая устойчивость, Глеб роется у себя в карманах.
Все. Потерял ключи.
Старухе соседке девяносто лет. Да еще и вдобавок глухая.
– Придется, – радует меня Глеб, – возвращаться обратно.
И вдруг вспоминает свою «Лидуху».
– Уехала, – улыбается, – за Полярный круг. Теперь, – смеется, – директор. Директор Полярного круга.
Мы переходим Московский проспект – и навстречу почему-то одни пьяные. И многие с Глебом здороваются. Одни просто кивают, а некоторые даже жмут петушка.
И Глеб у каждого из них допытывается:
– А ты не знаешь, где тут белые, а где красные?
Но никто, оказывается, не знает.
Теперь вдруг вспомнил Иосифа.
Иосиф, конечно, белый. Но поэт он небольшой.
– А ты, – спрашивает, – что, был на Брайтоне?
– Ну, да, – говорю, – был…
И он тоже был… у Кузьминского…
– А Эмму, – спрашиваю, – помнишь?
Задумывается.
– Мышка… человек…
А у лежащего на диване Кузьминского на животе пиво…
Выпьет и вешает пустую бутылку на ветку. Такая у Кузьминского елка. И вся в бутылках из-под пива.
Подходим к газетному развалу, и Глеб знакомит меня с продавцом.
– Хороший, – говорит, – человек.
Это значит я.
Мужичонка чем-то напоминает сидящую у «стены плача» румяную бабульку. (У которой в одной руке «Штурмовик Черномырдин», а в другой – «И снится Явлинскому Пуго». И еще за пазухой «Лимонка». А на ящике из-под пива – развернутый «Русский порядок».) И с выражением «чего изволите» выжидательно осклабливается.
Глеб (по-хозяйски):
– Дай ему пару газет…
Мужичонка протягивает мне два экземпляра. Газету «Завтра». Главный редактор Проханов. И еще «Дуэль».
Глеба там напечатали.
Я думал, это мне подарок. Но, оказывается, надо платить.
Я протягиваю продавцу четыре тыщи и кидаю Глебушкины подарки к себе в сумку. Дома прочту.
…Теперь разговаривает с нищим.
Знакомит.
– Хороший человек.
Это, значит, я.
Командует:
– Дай ему тыщу…
Я протягиваю нищему купюру.
Нищий:
– Храни тебя, Господь!
…На витрине винно-водочного киоска одни «бомбы». А где же чекушки? Придется раскошеливаться на поллитру.
Остановились у мороженщицы.
– Тебе, – поворачиваюсь, – какое?
Глеб уважает фруктовое.
– В стаканчике?
Лучше в брикете.
Опять кидаю в сумку. Как бы не протекло.
…Идем с ним через парк – и нам навстречу теперь сплошные бомжи. И все, как на подбор, косые.
Смеется:
– «Привет вам, птицы…»
И вдруг навстречу памятник Зое Космодемьянской.
Нахмуривается:
– Вот б…
И неожиданно запел:
– «Зачем вы Ваньку-то Морозова… Ведь он совсем не виноват»…
– Да, – говорю, – умер Булат…
Садится на скамейку и, подогнув колени, уже приноравливается на боковую.
Я хватаю Глеба за локоть и тормошу.
– Растает, – и киваю на свою сумку, – растает, – объясняю, – мороженое…
Глеб медленно разгибается и со словами «я, Толя, конечно, говно…» свешивает ноги на землю.
Ну, надо же, даже назвал меня Толей. Еще не позабыл.
…После бюста Зои Космодемьянской еще один бюст (поставили бы лучше бюст моей возлюбленной Зои из Магадана: вот это, я понимаю, БЮСТ).
На бюсте выбито ГРЕЧКО.
Я говорю:
– Когда-то был министр… помнишь… министр обороны…
Навстречу ковыляет старуха.
Глеб спрашивает:
– Бабушка, а что это за маршал?
Бабка вытаскивает очки и читает:
– Гречко.
– Вот видишь, – смеется Глеб, – а ты говорил министр…
(А когда я шел обратно, то оказалось – космонавт.)
…И вдруг вошли в березовую рощу.
Она застроена не деревом,
а музыкой – сквозными звуками…
Глеб улыбается:
– И откуда ты все это знаешь?
Я говорю:
– Такая песня…
И тоже ему в ответ улыбаюсь.
А все-таки я молодец, что вернулся на Родину. Не то что все эти «лифшицы-гозиасы».
И почему-то вдруг вспомнил Топорова.
Топоров, правда, как-то заметил, что в российской словесности одновременно существуют сразу два Глеба. Один – еще живой, а другой – уже давно откинул копыта.
Но Глеб Топорову все прощает. А вот Гозиасу он бы порекомендовал «открыть бакалейную лавку».
…И вдруг мы увидели газон. А на дощечке надпись НЕ ХОДИТЬ.
Я засмеялся:
Не ходить? А поваляться можно?
И Глеб опять меня похвалил. (Мы уже с ним заворачивали во двор.) И успокоил, что если соседки нет дома, то у него в запасе есть еще диван. И все жильцы этот его диван видят из окна. ДИВАН ГЛЕБА ГОРБОВСКОГО.
Оказывается, скамейка.
Из подъезда выходит мужик и, ласково поздоровавшись, называет своего соседа Глебушкой.
Мы поднимаемся по лестнице, и перед дверью своей берлоги Глеб опять выворачивает карманы. Платок с бутербродом на месте, а ключи точно слизало языком. Придется звонить.