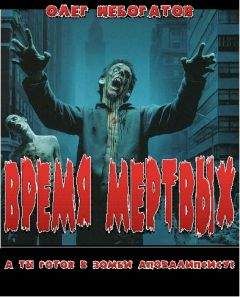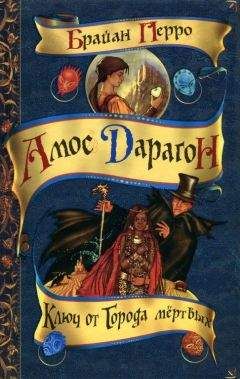Инна Тронина - Удар отложенной смерти
Он сначала решил, что Кисляков ждёт его, где обычно. Вошёл ворота, в ангар; там, на тележках, стояли готовые к кремации гробы – штук десять. И из них восемь – красных, в которых, как правило, хоронили коммунистов. Идейные покойники до сих пор не жаловали церковь, предпочитали «огненное погребение». Сам же Готтхильф не представлял себе свадьбу, рождение, смерть без священника. Несмотря на преследования верующих, мать окрестила его у ссыльного пастора. С Региной Фюхтель они венчались в Эстонии. Туда же отвезли и двухмесячную Магдалину в апреле семьдесят восьмого…
Увидев, что Валерия здесь нет, Филипп подошёл к бородатому низкорослому мужичку. Тот держал в руках венок с надписью на ленте «От любящих родных»; это означало – «всё в порядке».
– Скажите, можно здесь на своей плите гравировочку сделать?
– Вы в магазин зайдите, там скажут.
– А Кисляков Валерий работает сегодня?
– С утра был. Вы по кабинетам поищите. Если сами не найдёте, его вызовут…
Значит, путь свободен, и Озирский обезврежен. Уже совсем стемнело, и Филипп поднял глаза к бездонному, чёрному небу. Сейчас Валера сведёт их лицом к лицу с Озирским, и надо мобилизоваться для борьбы. Всё-таки, несмотря на браваду в «Петровском», Филипп знал, что разговор будет нелёгким.
Мимо, от автобуса, прошествовала процессия стариков в чёрных и синих пальто с одинаковыми каракулевыми воротниками. У каждого в руках была красно-чёрная шёлковая подушечка с орденом или медалью. Ветераны хоронили своего товарища. Филипп снял бобровую шапку – он был приучен уважать чужую смерть, даже когда убивал сам. Он бывал в крематории очень часто, и многие служащие его уже знали. Правда, виду не показывали – им строго-настрого запретили это делать.
Шустрые мужички держали себя неподобающе – орали, смеялись, искали партнёров для партии в домино. Тут же курили сотрудники, которые вели панихиды – в строгих тёмных костюмах. В их компании тоже царило оживление, велись политические дискуссии. К ним подошла коллега – брюнетка с гладкой причёской, которая ещё не сняла маску печали. Зато другая, кудрявая блондинка, даже пела арии, выпуская мятный дым через нос.
Готтхильф расстегнул дублёнку, потому что сразу же стало жарко. Он заглянул в кабинет, где обычно сидел Кисляков; но Валеры там не было. Обнаружилась только девица, остриженная чуть ли не налысо. Она печатала на электрическом «Роботроне», то и дело чертыхаясь из-за ошибок. Филипп понял, что она пытается работать под Жанну Агузарову. Рядом с блестящим рукавом, натянутым на острый локоть, лежал косметический набор. Такие коробочки сейчас продавались в «Пассаже» за сто двадцать рублей.
– Добрый вечер, барышня! – Готтхильф оглядел кабинет. Всё, как обычно, как везде – заваленные документами столы, голая красотка на глянцевом календаре, немытые чашки из-под чёрного кофе. – Валерий где, не знаете?
– Был в кремационном, – буркнула девица, снова принимаясь печатать. Филиппа она явно не знала.
– И давно ушёл?
– Давно. Должен бы уже вернуться. Сама жду – как слово пишется, не знаю…
Готтхильф мог бы помочь ей с грамматикой, но, как всегда, торопился. Да и девица могла начать кокетничать, потому что особы её круга принимали простую вежливость за бессмертную любовь с первого взгляда. К тому же, раз Кисляков давно пропадает в кремационном цехе, значит, Озирский там…
Филипп уверенно шёл по длинному, полутёмному коридору. По стенам чёрными змеями тянулись толстые кабели, а в подсобных помещениях стояли пустые гробы. По углам в картонных коробках громоздились белые тапочки и весьма симпатичные туфли. Шевелились от сквозняка ленты на венках, терпко пахли живые цветы в вёдрах – в основном гвоздики и хризантемы. Их направляли отсюда в цветочные магазины и на пятачки у метро.
Готтхильф знал, что гробы здесь не сжигают. Мало того, мертвецов раздевают до нижнего белья, даже могут и догола – если приглянутся тряпочки. Гробы злостно не опечатывают, потому что всё равно скоро открывать. Нет дураков зря переводить добро, когда в стране дефицит всего и вся.
Филипп припомнил жуткий случай, когда женщина в комиссионном магазине узнала платье, в котором неделю назад похоронила тётку. С тех пор крематорием заинтересовались и органы, и средства массовой информации. Валерий Кисляков, клокоча от ярости, допытывался, какой кретин сдал платье так быстро и в том же городе. Можно ведь было выехать в область, даже в Москву, и обстряпать дельце через прописанных там знакомых.
Кажется, поиски увенчались успехом. Одного из подельников Кислякова и его же тёзку, Валерия Пешлата, на Таллиннском шоссе протаранил КамАЗ, Разумеется, смяв «Жигули» Пешлата в блин, он скрылся с места происшествия. Кисляков был уверен, что Пешлат – агент Озирского. Якобы он, сдавая платье, хотел таким образом привлечь внимание к их богоугодному заведению.
В конце коридора двухстворчатая дверь была наглухо закрыта. И вообще, помещение напоминало бункер из фильмов про войну. Свет был тусклый, даже какой-то грязный, и низкий потолок будто бы давил на плечи. Трудно было вообразить, что совсем рядом существует живой мир – со снегом, с деревьями, со звёздами…
Филипп нажал на красную кнопку звонка. Тут же ему открыл сам Кисляков и впустил в крошечное пространство между двумя массивными дверями. Казалось, что жар печей ощущается даже здесь. Филипп вспомнил свои печки – на работе, в лаборатории. Те лишь зияли алыми зевами, но внутри них не бушевало кислородное пламя, не вырывались из них огненные «языки». Правда, при выключенном свете лаборатория всё же напоминала то ли преисподнюю, то ли берлогу алхимика.
– Филипп Адольфович, дело совсем швах, – вполголоса, даже не поприветствовав босса, заговорил Валерий. – Ментовская сука сумела заснять, как кремировали «левые» трупы. Ну, вроде Каневского…
– Понятно, – оборвал Филипп. – И что? Озирский здесь?
– Здесь. Уже в порядке, можно с ним разговаривать.
– Это он сказал, что есть такая кассета?
– Простите, я не договорил, Филипп Адольфович. Кассет две – на другой имеете запись кремации… живого человека. Это был один из агентов.
Готтхильф коротко выругался по-немецки, рывком расстегнул крючки дублёнки. В присутствии Валеры он не желал опускаться до русского мата.
– Где твои зенки были, фанера?! – рявкнул Готтхильф. Кисляков покрылся испариной. Он понимал, что, если Обер прикажет, его самого затолкают в печку. – Значит, так. Любой ценой нужно выяснить, где находятся кассеты, и получить их. Иначе я извещаю Семёна, что операция сорвана по твоей вине. И пусть сам шеф изобретает для тебя наказание. Ты дал записать себя на диктофон, снять на видео. Твои парни признались, что утаивают золотые слитки. Теперь прошляпили то, о чём ты сказал. Одним словом… Пошли! – Филипп грубо пихнул Кислякова в шею.
Они оказались в сером зале без окон. У закрытых заслонками печей стояли трое мужиков в чёрных халатах – такой же носил в химической лаборатории сам Готтхильф. Под высоким потолком гудели лампы дневного света. Филипп словно впервые увидел раскрытые гробы – уже пустые, с ворохами одежды. Были здесь и другие – с трупами. Покойные равнодушно спали вечным сном среди сатанинского бедлама.
– Выстави охрану! – гаркнул Готтхильф на Кислякова.
Он искал глазами Озирского. Андрея он действительно никогда не видел, а только слышал о нём от дружков. Знал, что это – молодой, красивый поляк, недавно ставший из старлея капитаном. Раньше он перепробовал массу различных профессий. Окончил, вроде бы, всего шесть классов, а дальше покатился по наклонной. Но дед Озирского был генералом КГБ, и потому внуку купили-таки аттестат. А. может, и подарили – неважно.
Дочь генерала Озирского и мать Андрея, красавица Мария, раньше преподавала русский и литературу во французской школе на улице Маяковского. Сейчас она вела курс ритмической гимнастики в одном из фешенебельных спортклубов.
Больше всего Филипп хотел сейчас увидеть лицо Андрея Озирского, его глаза, чтобы не кто-то судил и оценивал, делал выводы и отдавал приказы, а он, Обер. Лично он. И спрос потом будет только с него. Пусть даже самый жестокий спрос…
За свои сорок лет Филипп повидал многих приговорённых – ведь он, в сущности, и был палачом. В Казахстане это дело вообще было для него обычным, да и в Питере, случалось, он «решал вопросы» в меру своих сил и возможностей.
Смолоду он вошёл во вкус – работал то один, то на пару с двоюродным братом Тимом Крафтом. И потому отлично знал, как выглядят эти несчастные – льющийся по лбу пот, трясущиеся губы, пульсирующие зрачки, бессвязные слова. И омерзительные, животные крики, переходящие в глухие стоны. Люди корчились, истерически хохотали. Кто-то даже пел песни, грязно ругался. Почти все делали в штаны – и по-маленькому, и по-большому.