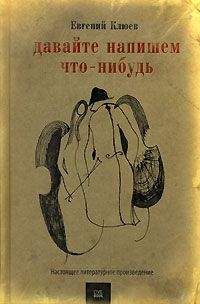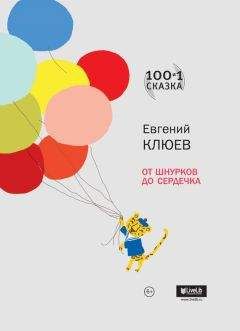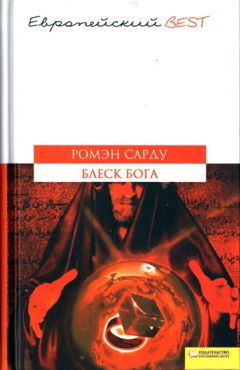Евгений Клюев - Translit
– Скажите, кто-нибудь уехал вчера из центра?
– Нет-нет, – заулыбались монахи, теперь уже каждый по отдельности, отметил он для себя, – никто не уезжал вчера из центра… да и вообще ничего примечательного вчера не случилось: обычные радостные, видите ли, будни, всё как всегда, господин.
– Так он вообще-то жил здесь – или не жил?
– Кто?
– Говорю же: Пра!.. Вот тут, на конверте, смотрите, адрес его – это ведь ваш адрес!
– Да адрес-то, конечно, наш, никто не спорит! Только… все равно не очень понятно, какого именно Пра Вы имеете в виду, господин, потому что тут каждый второй, если не каждый первый – в той или иной степени Пра…
– Это, может быть, титул такой – «Пра»?
– Пожалуй, – кивнул правый-крайний и вслед за ним охотно закивали остальные. – И титул, и имя, и… всё. А «кельи», как Вы их называете, будете смотреть?
– Пожалуй, нет… спасибо. Я лучше пойду. Простите за беспокойство.
– Так мы и не беспокоились совсем, мы никогда ни о чем не беспокоимся, – затараторили монахи. – И Вы не беспокойтесь, даже если Ваш друг вчера и умер… каким-нибудь образом.
Монашеское «каким-нибудь образом» вдруг примирило его с реальностью. Когда он, так ничего и не поняв про смерть Пра, снова вышел на улицу, тело сделалось совсем легким – и непременный блокнот-в-кармане начал ощущаться как обуза. Блокнот он, стало быть, тут же и выбросил, а больше из карманов выбросить оказалось нечего – выбрасывать сигареты и зажигалку он все-таки не решился.
С тех пор он писал не в блокнотах. С тех пор он писал в сердце своем. Иногда – кровью.
Если это вообще он писал, потому что вопрос о том, «кто писал» выглядел отнюдь и отнюдь не более простым, чем вопрос «кто умер». Правда, на вопрос «кто умер» ему тогда фактически ответили, что никто не умер. Ответ, получалось, был правильным: «В реальности меня просто нету – я кажусь тебе», – ветерком свистел у него в ушной раковине тихий голос Пра.
Кстати, в тот день, сразу после посещения буддистского центра, он прямиком направился в Риц-Рац, к Патриции. Не чтобы поесть, конечно, поговорить надо было… только Патриции вдруг не оказалось на месте – и даже непонятно было, работала она сегодня или нет, но, слава Богу, нашелся в конце концов Эсбен.
– Так for sidst, – традиционно сказал он Эсбену, имея в виду их с Пра визит сюда накануне.
– Привет, – заорал Эсбен, едва увидев его. – Хорошенькое «for sidst»… сто лет не виделись!
Насчет ста лет – с учетом вчерашней встречи – он не понял: почему – сто лет? Хотел спросить, да вдруг испугался… а ну как Эсбен скажет: не было вчера здесь, дескать, ни тебя отдельно, ни тебя с кем-нибудь еще – что тогда? И так уже монахи совсем его запутали… Пришлось свернуть разговор куда попало («попало» – в сторону вегетарианства, о чем же еще говорить в Риц-Раце!), а потом по-быстрому набросать каких-то зеленых чепуховин на тарелку, съесть их не глядя, расплатиться с лихвой и уйти, ни словом не обмолвившись о вчерашнем дне – со всей очевидностью, пропавшем из сознания современников.
Так, стало быть, и разрешился или не разрешился запутанный этот вопрос – насчет «кто умер».
«Никто не умер», – сказал он себе вечером 24 мая одного теперь уже далекого года: никто не умер, и никогда не было в его жизни никакого Пра.
А вот насчет «кто писал»…
Тут одно очевидно: процесс письма происходил непрерывно – и как бы ему ни хотелось, одной-единственной любимой его отговоркой (скороговоркой) насчет са-мо-пис-ца-ос-цил-ло-гра-фа было не отделаться. Ибо, так или иначе, но кто-то должен был запускать даже и са-мо-пи-сец-ос-цил-ло-гра-фа, чтобы дальше тот мог совершать свои – пусть сколько угодно самостоятельные! – колебания.
И дело тут вот в чем… сдавалось ему все чаще, что не он запускал самописец. Словосочетание «я пишу» отсылало к некоему «я», которое никогда не было его собственным «я» – более того: его собственное «я» всегда находилось по отношению к тому «я» в позиции критической… это если очень мягко выразиться. Года два назад он нашел, например, среди старых своих бумаг в Твери опус, документально это подтверждающий. Стихи, написанные, вроде бы, им, причем в совсем никаком возрасте – и заканчивавшиеся приблизительно так: я-побегу-дождя-не-переждя-сказать-что-я-люблю-того-дождя, а под стихами – несомненно, его же почерком – оскорбительную приписку: «Ну и дурак ты после этого».
Так с тех пор, значит, и пошло у них: один писал – другой глумился, один утверждал – другой отрицал, один создавал – другой разрушал.
А потом появились и остальные – третий, четвертый… он, в сущности, представления не имел о том, кто все они такие – понимал только умом, что все четверо, вроде как, пишут: кто-то – всевозможные газетные глупости, кто-то – сухие, как прошлогодняя листва, научные статьи, кто-то – постоянно мокрые от слез стихи, кто-то – прозу, причем разностильную… По счастью, они никогда не собирались вместе: не то не выносили друг друга, не то что… Время от времени, правда, возникало впечатление, будто один или другой имеет к нему отношение и даже говорит от его имени, но всякий раз впечатление такое, слава Богу, оказывалось ложным и рано или поздно проходило. Во всяком случае, идентифицировать себя с кем-то из них окончательно ему никак не хотелось.
– Это нормально, – резюмировал Ансельм, когда он все-таки решился рассказать о своих ощущениях. – Потому что любые рассуждения о цельности человеческой натуры суть сказки-народов-мира. Нет никакой цельности – иначе каждого из нас просто разнесло бы в щепки. В том-то и состоит защитная функция человеческого мозга: не обременять живой организм необходимостью существовать в качестве системы неразрешимых противоречий. Ну и… одна из наших личностей просто заменяется другой нашей личностью – чтобы эта другая личность могла непротиворечиво расположиться в новой системе координат, а когда система координат опять трансформируется, мозг создает еще одну нашу личность… и так до бесконечности. Я уверен, уже очень скоро психология вынуждена будет признать: то, что веками считалось патологией, есть норма, и на самом деле человек как таковой представляет собой не монолитное нечто, а подвижную совокупность разнообразных личностей. Кстати, социология это уже признала – Бонни Нортон Пирс почитай, о самоидентичности. Не хочешь Бонни Нортон Пирс – посмотри, как люди меняют облики в Интернете, приобретая – в зависимости от сетевых обстоятельств – то одну, то другую индивидуальность. Здесь он добряк и душка, там монстр и злодей, здесь бунтарь и анархист, там узколобый консерватор, здесь человек с улицы, там наследный принц… В моей практике даже есть случаи, когда интернет-пользователь в одном блоге мужчина, в другом – женщина, в одном тинейджер, в другом – пенсионер… и никаких противоречий! Настолько далеко ты еще со своими играми не зашел, так что у тебя едва ли есть основания считать себя человеком будущего. Вот пациенты мои – дело другое: они определенно люди будущего.
– Да понятно, что другое дело… они же как-никак сумасшедшие, а я пока еще нет, – ответил он, поглубже запихивая в себя воспоминание о том, как он под разными личинами переписывался в детстве со всем миром.
Тут Ансельм уже просто расхохотался.
– Господь с тобой, почему ж сумасшедшие-то? Просто эволюция человечества не требует от человека цельности… даже и сосредоточенности не требует: вспомни, как все мы, держа в руке телевизионный пульт, скачем с программы на программу, успевая отъесть по кусочку от каждого пирога! Цельный человек с ума бы от этого сошел, а человек современный – он именно таким образом сохраняет свое ментальное здоровье. Он, скорее, сошел бы с ума, вынуди его быть цельным!
Жаль, кстати, что вчера в зоопарке не удалось хотя бы на минутку остаться с Ансельмом наедине – поделиться впечатлениями о двух поездках одного и того же индивида (но, по терминологии Ансельма, – двух, видимо, личностей!) разными маршрутами одновременно: уж кто-кто, а Ансельм бы не мог не оценить этих впечатлений по достоинству. Но – увы, рядом постоянно были Нина и Аста… особенно, конечно, Аста, прямо-таки не выпускавшая его руки из своей – словно чувствовала, что он вот-вот растает в воздухе… да, ужасно жаль, неудачно все сложилось: Ансельма бы наверняка сильно повеселила его история про то, как из пункта А в пункт Б… – и так далее, далее, далее.
Впрочем, в данный момент дело было, конечно, не в этом – дело было в становящемся все более и более насущным вопросе: кто тут у нас все-таки пишет? И – чего уж греха таить – велико было искушение, вспомнив никогда не существовавшего Пра и заключение по поводу его смерти «никто не умер», ответить в том же духе и на сей насущный вопрос: «Никто не пишет». Только ведь если никаких следов Пра вокруг действительно не наблюдалось (из чего именно и следовало, что никто не умер), то текстовая-то масса – она постоянно увеличивалась, и игнорировать сей факт было, увы, невозможно… или, во всяком случае, – трудно.