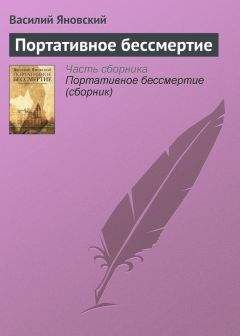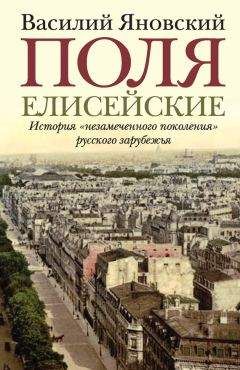Василий Яновский - Портативное бессмертие (сборник)
Оправляясь, медлю: примериваюсь, впитываю… нищенку, что недовольно бурчит на полу, а рядом спутник, философ, безмятежно прикорнул, черный, тучный. Запечатлеваю, прикидываю, пророчески ныряю вдаль. Я вижу, я вижу тебя. В последней нищете, убогая, душа моя прорвется, вспомнит наконец. Вокзал, храм или книгохранилище: «Прощай», – из этой (знаю) неповторимой жизни. Студент или набожная старушка сунет монету: “Non, non” , – скажу я улыбаясь. Часто в этот миг, как бы его пожирая, мне предстает образ тысячелетнего града (уже являвшийся): город веков, оазис, каменный среди песков, ровно, без теней, залитый медно-пламенным, жидким солнцем. (Воздух там раскаленный: дышать нельзя, но и не надо дышать. Нет чувства обычной усталости: тела, ног, подошв. Уже долго, и еще целую вечность, буду так бродить… Как в летнее, каникулярное время, я так любил, когда чинят мостовую, сверлят машиною, льют смолу, гладят ее моторным утюгом, дышать трудно, а радостно.) Осторожно шагаю назад через тела лежащих: не задеваю, и все же нищенка стучит клюкою, сердито бормочет. С минуту еще жду: не сейчас ли, если б молния меня повергла, – как сократился бы, выпрямился путь! Выбираюсь наружу, где бабы, ночные шоферы, крайние волны из Halles [169] . Пересекаю площадь, за спиною вдруг раздается тихое ржание запряженного коня, и я содрогаюсь от этого задушевного, человечного голоса. В молчании, в полутьме хмурые грузчики опорожняют тяжелые камионы [170] , несут пухлые тюки, ставят на землю большие ящики (луна бледная, на хладном небе); таинственно – не все движения понятны – мнится: то разгружают прибывшие издалека удушливые сны, инфекционные болезни, – а город спит. Проститутка зовет, ложно-страстно чмокает языком, и душа целое мгновение бесшумно (на цыпочках) следует за нею. У дымной башни сквера Сэн-Жак {67} (где витают черти) едва уловимо распространяется трупный запах: меня не обманешь, то не листья осенние, здесь зарывали расстрелянных или заморенных, прикрыв останки тонким пластом земли! С блеклых дерев несется птичий гомон. Можно дивиться, откуда берется в городе такое сонмище, как они помещаются на одном кусте. Только в предрассветье это обнаружишь. Верещат, возятся, кричат, ссорятся – ведут себя, как в будни граждане нищей страны, утром, где, скажем, один примус или уборная на многих. Их говор, увы, слишком понятен. Места – в обрез. Дерево – это селение, колония надоевших друг другу мудрецов и младенцев. Озабоченно чистятся, дают советы младшим, одеваются, полощут рты, готовятся к полному случайностями дню разночинцев (промысел, служба, игры). Воздух дрожит от требовательного, опьяненного пробуждением, кротко-жадного, музыкально-беспорядочного писка (как после звонка в школе моментально поднимается, на разные лады взятая, саранча звуков – какофония детей). Копошение, укоры, догадки. До чего понятно все и знакомо. Живите, как птицы небесные (небесные ли?). Я подкармливал хворого голубя в Люксембургском саду (на клюве – кровоточащие наросты, чирья); только слева, у самого края, осталось неболящее место, которым он мог еще подбирать мякину, выворачивая для этого особым способом шею, мучительно вытягиваясь, опасливо, героически проглатывая крошку. Надо было видеть, что творилось кругом: не только сородичи, молодые, сильные, но любые мелкие пернатые – воробьи – пыжились, куражились, наседали, били несчастного, гнали, отнимали хлеб и тут же перед его носом с гневным достоинством уплетали. А голубь, тяжелый, трясущийся, гадкий самому себе, не настаивал, отбегал за ствол, за куст (летал с трудом), подло прятался. С неделю я голубя, вопреки всем разумным законам, так поддерживал; потом он исчез: выздоровел и пребывал в местах, более интересных для стяжателя (либо околел)… Поворачиваю на страшную улицу Риволи, соединяющую дворец с тюрьмою. Близка сеть узких переулков, притаившихся, как змеи; там в праздничные ночи народ строит баррикады, а в будни трепыхаются, словно помятые крысы, проститутки: кровью и резиною пахнет от подворотен. Справа остаются Notre-Dame и грязное здание префектуры; меж ними госпиталь Отель-Дье: к темному, холодному фронтону его меня навеки припаяли. Там я узнал эту грусть больших палат, огней и сумерек, юных и уродов, зимы и лета (а за стеною – жизнь). О, как жадно я держал стынущую руку обреченного. С таким чувством взрослые толпятся вокруг клетки с орангутаном, мучительно распознавая отдаленно-схожие черты. Над северо-востоком Парижа стоит зарево. (Горят доки, арсенал, быть может, рушится Бастилия…) Жмурюсь, затыкаю уши. Убивали, жгли, рубили, взрывали, предавали; с живых драли шкуру и салом мазали свои раны, шилом кололи глаза племенных жеребцов и пускали их под лед; сносили церкви, взрывали музеи, жгли книги, цветы, кружева, гобелены перекраивали в попоны, сапожищами топтали фарфор, детей; пилою отделяли туловища врагов, отрезали груди, вспарывали животы, грабили. Ветер многих бунтов меня подхватывает. На площади Hôtel de Ville {68} , преображенной луною, меня встречает свинцовый окрик: «Где ты был бы в день 14 декабря?..» Превозмогая робость и лень, отвечаю: «На Сенатской площади, ваше величество». Одинокая фигура мечется по плацу. Он смешно перебегает от шеренги к шеренге. Раздается пушечный выстрел. «Фора, фора», – кричат гвардейские офицеры, побывавшие за границею (позже Раскольников даст залп в обратном направлении). Пушкин на снегу, смертельно ранен; не поднять пистолет! Судорожно сгребает ладонью снег, подносит ко рту, глотает, – воспрянуть бы еще на мгновение! В эту единственную дарованную минуту он постарается просверлить врага (тот, не спросясь, потрогал его жену). Мчатся сани, в санях черный гроб (а раньше: «Кого везете? – Грибоедова!»). «Ты веришь?» – спрашивает Савинков {69} . «Да», – отвечает Сазонов {70} и отходит с бомбою. Через несколько минут (какое ожидание): стук кареты, взрыв. Не выдерживая более, Савинков выбегает на Измайловский проспект. На тротуаре бьется лошадь с распоротым брюхом. (Помню в деревне по жижице грязи, навоза и хвои – раздвоенные следы – однажды возвращалось стадо; меж темными и бурыми трусил пегий бычок с вывалившимися, свисающими внутренностями: пузыри, сосиски, стеклянные грибы розовато-коричневых, перламутровых кишок: бугай его пырнул рогами. Полуторагодовалый бычок бежал стороною, путаясь, хромая, томительно скучно, вяло, рассеянно озираясь. О, характерная обособленность, одиночество – словно невидимая, плотная стена уже выросла – обреченных. Он спешил, не узнавая своих, приставая вдруг к чужой матке, кротко трясясь следом за бугаем-убийцей. А стадо, бычка будто не замечая, изолируя, опережая, трусило по ароматно-хвойной жиже, неся великий страх, неосознанный и человечий, в душе.) «Замордовано Плевего!» – кричат варшавские газетчики. «Что значит: замордовано?» – спрашивает взволнованный прохожий у лавочницы, и его всегда, казалось, небритые, сырые, холодно-жирные щеки трясутся над тучным, водянистым телом. «До победного ура!» Чугунному Милюкову не везет. Комиссар Черноморского флота едет в Севастополь. У него такое чувство, как у Ипполита (из «Идиота»): пусть только дадут сказать (из окна – толпе), выслушают, и все спасено (истина восторжествует). Но уже слышен рев черни: то с Финляндского вокзала, в апрельские сумерки, ликующие матросы везут на освещенном факелами грузовике убедительно картавящего дворянина. “ Es schwindelt! ” [171] – говорит Ленин своему соседу, укладываясь на полу в Смольном (о, как в ту ночь голова, должно быть, кружилась). Перебегаю набитую тенями мостовую. Я проделываю путь в свой 20-й квартал, вслед за откормленными мясом версальцами. На каждом углу патрули; треск старинных ружей, дробь барабана, стук прикладов, проклятия, гимны, вскрики (и яростная тишина), – шумы баррикадной мистерии: лоб в лоб, в потемках, на дне. Солдаты брали очаг за очагом, в ожесточенном, городском бою. Оставшийся, последний защитник разряжает карабин себе в рот. Улицы, улицы от République до Vincennes [172] , и выше, к докам. Obercampf, St. Maur, Angoulême, Ménilmontant [173] . Последнюю баррикаду смела картечь на rue Ramponneau [174] . Кладбище Père-Lachaise {71} : бой идет за каждую пядь могильной земли, за каждый надгробный памятник. “ Concession à perpétuité [175] ”. Покойников в мундирах поднимают, выбрасывают: кончена относительная вечность. В решетки фамильных склепов суют длинные дула ружей, расходуют последние обоймы; где мадонны, терезы и распятья, дерутся штыками и ломами; взлетают головы, руки, берцовые кости. Раздетых коммунаров (быть может, трупы статских советников?) влекут к стене. Залп, повторный: свинец об камень… и покой, братский, добротный покой под жесткой периною. От Китая до Вестминстера – то же: как лозунги и рисунки в уборных. «Что ждет тебя, Земля! – вопию вдруг молитвенно. – Какая судьба? Устроившись, организовав отдельные части, достигнув равновесия, превратишься ли ты в муравейник с одною маткою, в улей!.. Уподобятся ли Твои сыны африканским термитам, умеющим добывать Н2О из воздуха, или угрям, знающим секрет электричества, медленно коченея под стынущим солнцем… А то: в разгаре гульбы и поножовщины жидкий атомный хвост случайной кометы стегнет тебя по щекам – сметет все… Раскаленная, черно-ледяная, ты долго опять будешь болтаться мертвою кошкой по вселенной, пока первая инфузория не шевельнется, – она раздвоится, и Каин убьет Авеля… Или ты удостоишься, наконец, другого… Сколько культур и дорог позади: все прешли, пресеклись – тупики – иные иссякли, иных поглотили моря! Только ты, христианская Европа, скользя меж сотнями топоров, удержалась, тысячелетья преодолевая (улыбаясь сквозь боль) – косность, биологию, ледники! Дотянешься ли, сообразишь!.. Хватит ли мудрости и сердца!.. Захотят ли, сумеют ли Боги тебе помочь!.. Не в силках, не по манежу нам бегать, вечно возвращаясь на то же место! Что за перевалом?.. Гряди, Господь. Алую кровь готов отдать – аллилуйя, – грешным дыханием дунуть в твои хлопающие паруса! Гляжу с недоумением и страхом. Слепой сын, Земля, почтительно лобызает Твой матерински-хладный лоб, не узнавая его. Жду чуда. Но как приложиться… Ей, Господи, помилуй». Я поднимаюсь уже вверх, по той неожиданно-значительной в этот час улице, что днем похожа на толстую кишку. У церкви, на огромной паперти, копошится, мяукает – кошка ли, подкидыш… Осенью резиновые подошвы топчут сморщенные тела листьев обнаженных лип. Если ветер их высушил, они с тихим, жалобным шорохом вдруг начинают – будто птицы с перебитым крылом – волочиться, бежать за мною, догонять, обнюхивая, утыкаться в след. Они образуют отдельные группы, вот замыкают меня в свой печальный хоровод: кружат у ног, сиротливо, бездомно переминаются, чего-то ждут, требуют, просят (прирученные звери, потерявшие хозяина). Я делаю шаг к ним навстречу, склоняюсь, тогда листья испуганно, осознав ошибку, разлетаются, уносятся с тихим, враждебным ропотом; но опять останавливаются, возвращаются, вглядываясь, чего-то ищут, корят. «Это души, беспомощные души, потерявшие тело», – решаю я. Хочется всех прижать к груди, согреть их, унести с собою. Но им, вероятно, не этого нужно: немного помедлив, шелестят дальше, в тщетной надежде, – желтокрылые, дрожащие, покинутые. Иногда под холодным, загадочным ветром, нелепым плавником, ластом, прошуршит по мостовой лист бумаги – газетной, упаковочной. Он скользит, провожает вас, одинокий, озлобленный, сосредоточенный; кружит, иногда заденет колено, долго не отстает, но попробуйте наступить ногою: фыркнет, крикнет, проклянет, оскорбленно вопя, понесется вперед, неприкаянный, отверженный, гонимый: его остуженная душа не жалуется потому, что уже ни во что не верит. Шороху бумаги вторят всплески черной воды – там, снизу, в канализационной системе: за решетками, за излучинами спешит она под землею, озабоченно булькая, грозная, всклокоченная, темная, враждебная свету; злобно урчит, плещется, несется. Останавливаюсь, долго слушаю, сомкнув глаза, стихийную возню гордого, чуждого сердца. С этим мрачным отверстием и его звучанием у меня связана память – о крысе: дебелая, она выбежала днем из подворотни на тротуар. Рыжая, гладкая, с длинным хвостом, прыгнула под колесо опорожняемого грузовика, зябко кутаясь, подбираясь, прячась. Ее выгнали оттуда: неохотно, мечтательно-хищно скакнула назад в знакомую подворотню (ей бы в другую). Крысу окружили, шофер в тельнике с растерзанным воротом упоенно плясал (месил), все не задевая – скользкую, жирную – сапогами; консьержка с растерянным, озабоченным ликом махала помелом; отовсюду тянулись конечности, палки, зонтики, детвора взвизгивала, хилые собачонки рвались, бреша, с привязей; всё вовлекалось: мой спутник, коллега, специалист по глазным, не докончив фразу – ринулся в самую гущу. Так соблазнительно преследование – толпою – убегающего, осужденного: ожидание легкого и страшного, последнего писка. Сама крыса, не догадываясь о значении окружающих вещей, машин, звуков, однако, отлично понимала суть происходящего: принимала эту травлю, утверждала ее, казалось, одобряла (долею себя была с преследователями, – сама бы приняла участие). Ее задавили в подворотне, у сорных баков; шофер с вдохновенно-исступленным лицом двумя резкими бросками поддал ее на тротуар и столкнул в пах канавы: как со рта беззубого обжоры крошки и капли, свисала мокрая, прилипшая зелень помоев, а глубоко вот так катила вода, торопясь (там по трубам, говорят, носятся табуны крыс – попадись только им). А мелькнувший по воздуху острый хвост крысы мне тогда напомнил одну из домашних, детских кошек (они часто менялись в России), подохшую на моих глазах. Мы выводили мышьяком крыс в конюшне, она, верно, поела отравленное мясо: на рассвете забилась посередине детской, судорожными, гальваническими прыжками скача, кувыркаясь. Первая догадка была: резвится, играет в снопе восходящего солнца… Потом смекнул: неладное, но сойти поленился (боялся; особая слабость, нега, злорадство, как на улице Будущего, когда – «Помогите» раздастся). Она сразу окоченела, пышная, молодая, с тяжелым (густая коса) хвостом, белогрудая красавица в непостижимом сне. Это она, бабьим летом, пропав на ночь, вдруг под утро капризно заскреблась в окно; я отворил форточку: не оглядываясь, грешницей, пронеслась в комнаты (а на заборе сидел могучий, грязный, тяжелый, бездомный кот и покровительственно жмурился). «Блудница, бесстыдница, потаскуха!» – оскорбленный, ее поносил. Но когда увидал мертвою на полу, юная с пышным хвостом, понял, сердце метнулось, и в благодарном порыве – земная радость! – взмолился, простил, славословя (как спустя – то же и по-другому – в анатомическом театре, над девою). Прежде чем окотиться, она бегала, точно собака, по дому, путаясь в штанинах, подолах близких, нюхая, облизывая каблуки, сбитая с толку, напуганная, неопытная, мяукая, – пока догадались устроить ей место в корзине. Так вот листы кружат, трутся у моих ног сейчас. «Это души, это души слепые, чего им надобно?» Сколько тяжести в плечах и усталость; горят пятки, оболочки мозга. Промчалось вверх, шумя второй скоростью, темное такси, глаза тоскливо просверлили номер: 2937. «Где ты будешь через тысячу лет, скажи, подумай?»