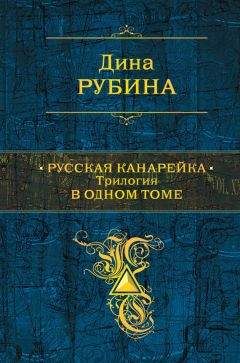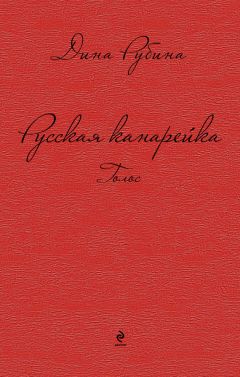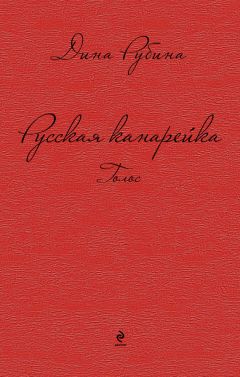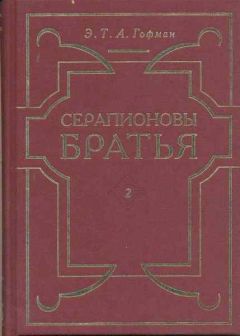Дина Рубина - Русская канарейка. Желтухин
И не показалось…
Леон, напряженный и бледный, стоял на перроне рядом с матерью – прекрасно-алой, как закат на картине художника Никифорова, – и безнадежно пытался ее унять, хватая за руки. Когда запахло жареным и масштабы бедствия были явлены во всю ширину перрона, Владка протрубила такую зорю, выдав фонтан ослепительной брани, что остановить этот дурной-трамвайный скандал уже не было никакой возможности.
Погранцы взъярились по-настоящему и тоже материли задрыгу-жидовку на чем свет стоит. Та, само собой, не отставала, обещая такую дать им щас прострацию…
Уже и драка подкатывала, а точнее, очевидное избиение Владки – особенно после того, как парни разодрали листы картона, в которые картины были упакованы, и выкинули произведения искусства прямо на грязный снег. Назревала такая страшная история на снегу, что Леон сбегал за Ритиным мужем Колей, мастером спорта по вольной борьбе, чтобы тот Владку скрутил. И Коля (все же спортивная реакция – дело хорошее) мгновенно выскочил и за секунду до катастрофы, до того как Владка бросилась на таможенников с кулачками, схватил ее сзади за локти, легко поднял и унес в купе, где запер, и она билась там о дверь, воя и выкрикивая свирельным голосом рифмованные непотребства, пока погранцы – уже за принцип — не повыкидывали из сумок абсолютно все в снеговую жижу перрона.
Вокруг вагона цепочкой выстроились автоматчики, не давая провожающим подойти к окнам.
Все это продолжалось так долго, что поезд в конце концов дернулся, и все уже досмотренные пассажиры, наблюдавшие из окон сцену погрома, завопили мальчику, чтоб прыгал скорее.
Леон успел подхватить одну из сумок – полупустую, где, как выяснилось потом, оставался лишь утрамбованный парусиновый саквояж с «венским гардеробом» да скомканный французский гобелен, принятый таможенниками за старую тряпку, – и взлетел по ступеням в вагон.
В купе у окна, держа на коленях огромный, как школьный глобус, давно уже ставший родным бумажный абажур, скорчилась бывший доцент кафедры вокала Эсфирь Гавриловна Этингер… Эська, Барышня, седой полоумный гномик.
А Стеша стояла у окна в коридоре, опираясь на обе палки и глядя на перрон, на уплывающие прочь разверстые сумки и чемоданы – на все, что осталось от прожитой жизни: подушки, скатерти, одеяла и несостоявшееся Владкино богатство: три великие картины, проткнутые каблуками таможенников.
Стеша не плакала. Просто смотрела и твердила сухим протокольным голосом:
– Это слезы, слезы, слезы…
* * *…«La-аcri-mosa die-еs illa», «Полон слез тот день»…
Хор вступил на фоне сдержанных всхлипываний скрипок: «Лакримоза», восьмая часть моцартовского «Реквиема», первая ее фраза, идеально вписанная в широкую мелодию дважды повторенного такта.
– Это вам задание на зимние каникулы, – сказала преподавательница по музлитературе. – Просто слушайте, и все. Изучать будем серьезно, ребята, и долго, многого вы еще не поймете, так что просто слушайте много раз, чтобы эта великая музыка была у вас на слуху. Договорились? – Но никто ее уже не слышал – и потому что звонок трендел, и потому что каникулы, и свобода на целых десять дней…
Кто об том Моцарте думает?
Но Леон – слушал и думал, тем более что, наряду с «венским гардеробом» и бумажным абажуром тети Моти, плеер с наушниками был единственным, что осталось во владении семьи после великого таможенного шмона в Чопе.
Все первые недели Леон ходил по Иерусалиму под «Реквием», не снимая наушников, даже когда к нему обращались на улице.
Лет пятнадцать спустя психолог конторы, молодой симпатичный парень, с которым он даже приятельствовал какое-то время, объяснил ему, что то была реакция ребенка на перемещение в чужую среду; «линия защиты».
Леон и защищался: слушал «Реквием», все части подряд, возвращаясь назад, щелкая кнопками и произвольно выбирая то стремительную фугу «Kyrie», то шквальный «Dies irae», то короткий, как клинок кинжала, ошеломляющий напором «Rex»… Лишь самое начало пропускал, «Introitus» – потому что боялся его.
А «Лакримозу», великую «Слезную», очень любил – за прерывистую нежность, за мужественную грусть, за – несмотря ни на что – упрямо мажорный финал.
Краткие вздохи, прерванные паузами, двигали мелодию поступенно вверх, и хор, перекликаясь со струнными, всхлипывал: «Qua resurget ex favilla» («Когда восстанет из праха…»).
Линия мелодии поднималась и плавно опускалась: «Huic ergo parce, Deus» («Так пощади его, Боже…»). И возвращались всхлипы струнных, и классическая реприза молила о главном: «Dona eis requiem. Amen» («Дай им вечный покой. Аминь»), и нисходящие четверти с точкой звучали комьями земли, брошенными на крышку гроба.
9Стеша умерла в Иерусалиме спустя три недели после приезда.
Они успели недорого снять трехкомнатную квартиру в самом дешевом и до изумления замусоренном районе, в каком-то неуютно-сквозном, без двери, подъезде; успели записать Владку на курсы иврита, а Леона – в шестой класс местной, перегруженной детьми школы, где он ничего не понимал, чувствуя лишь пустотный гул под ложечкой. Однако единственного из «русских» детей его не дразнили и не шпыняли: он был похож на всех «марокканских» мальчишек в классе, на улице, во дворе, и те несколько фраз, что успел выхватить из всеобщего ора на уроках и переменах, произносил в точности, как эти черноголовые горлопаны, – с арабским придыханием, от которого ему еще предстояло избавиться.
Стеша покинула этот мир, исполненная радости и покоя, – как ни странно это звучит.
Она вообще много радовалась под конец, становясь чем дальше, тем светлее и легче, хотя физически уже не в состоянии была передвигаться. Радовалась, словно выпавшая ей последняя дорога в Иерусалим была вовсе не случайностью, не Владкиной придурью, а наградой за какие-то тайные заслуги.
Она и рождение Леона считала теперь чуть ли не главной себе наградой. И никогда не сердилась, если он ее копировал, подтрунивал над ней или откровенно передразнивал. Да и он знал, что ничем ее не смутит.
Леон был единственным, кому Стеша накануне ухода рассказала о том, как убила управдома Сергея.
…Она лежала в третьей палате отделения внутренних болезней больницы «Адасса», что на горе Скопус, – подключенная к капельнице, с кислородной трубкой в носу. Леон сидел рядом, каждые десять минут дотошно проверяя, хорошо ли держится у нее на руке залепленная пластырем игла в дряблом шнурочке вены.
Они с Владкой менялись – та дежурила ночью, Леон (пропуская уроки) с утра до вечера, хотя уход здесь был на совесть и такого круглосуточного дежурства от родственников никто не требовал. Но они все равно не бросали Стешу ни на минуту, потому что носатый и спокойный, как слон, врач сказал: «Ей немного осталось, и наша задача – не дать ей страдать». Так что, пока Стеша хорошела под наркотиками, Леон сидел рядом, перебрасываясь с ней двумя-тремя словами, когда она – все реже – всплывала со дна своего туманного забытья. С собой у него были журнальчик-приложение к местной газете на русском языке и плеер, по которому он маниакально, как обреченный, слушал и слушал «Реквием».
В какой-то момент Стеша очнулась и знаками показала, чтобы он снял наушники. Глаза у нее были понимающие и ясные.
– Большой Этингер, – проговорила она с трудом. – Ему ТАМ хорошо. Он там поет, как птица, готовится меня встретить. Я сейчас видела… Не волнуйся, ему там хорошо, – повторила она со значением.
– А я и не волнуюсь.
– Вот и не волнуйся, Левка… Слышал, что управдома Сергея убили в тот день, как расстреляли Большого Этингера? Так вот, это за Гаврилскарыча. За него было кому отомстить.
– Партизаны? – спросил мальчик.
– Какие, к черту, партизаны, – тяжело дыша, презрительно отозвалась Стеша. – Гаврилскарыч был, слава богу, человек семейный. За него было кому отомстить.
– И кто ж это такой оказался храбрый? – насмешливо спросил Леон.
– Я, – ответила Стеша.
Она спокойно переждала, пока мальчишка, по-обезьяньи подпрыгивая, изобразит ее за пулеметом, с винтовкой и гранатой. И когда схватил в кулак большую круглую ручку с восемью стержнями и замахнулся на нее, дико вращая глазами, Стеша благосклонно проронила:
– Да… Вот так.
Он застыл:
– Ты его заколола? В сердце?
– Не. Вот сюда. – Приподняла руку, за которой потянулся шнур капельницы, и показала на горло, трепещущее от нехватки воздуха. – Я тебя научу когда-нибудь.
– Ба! Научи прям щас! – взмолился он. – Я завтра физрука убью.
– Хорошо, – отозвалась она. – Завтра утром покажу. Отдышусь только…
Но – не вышло, нет. Ранним утром – уже светало – Стеша отошла. В тот момент, когда она утихла, Владка требовала на стойке медсестер пластиковый стаканчик – напористым голосом, по-русски, точно речь шла о чем-то судьбоносном; о срочной операции, например.