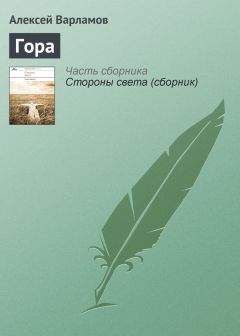Мария Голованивская - Я люблю тебя
Но эта радость, выдающая, что все мои чувства пришли в сильное хаотичное движение, очень быстро сменялась провалом в никуда, в черноту, пустоту и тревогу, и тогда мысли о тебе наполняли меня до краев. Звонить мне тебе некуда. Остается только ждать твоих звонков – на мобильный, в офис, домой. Я дала тебе все мои телефоны, ты записал их на каком-то клочке, и в первые сутки, когда ты не позвонил, я была уверена, что мой телефон ты просто потерял.
Потом ты наконец позвонил. По твоему голосу я не поняла ничего – глухой, бесцветный, сказал: «Зайду». Не «приду», а «зайду». И не сегодня же, а завтра, от шести до семи вечера. Сразу же озноб по всему телу, уверенность, что впереди бессонная ночь и пульсирующая единственная мысль: «Господи, я попала, как же я попала!»
Вечером набрала телефон моей «скорой помощи», вызвала к себе Петюню, безо всяких преамбул, прямо с порога выдала подробный отчет о происшедшем.
Мой милый Петюня. Всякий раз покорно приходишь, когда мне хочется поплакаться в жилетку, каждый раз послушно усаживаешься в кресло напротив, выпиваешь четыре чашки чая с молоком и два коньяка с лимоном. Много куришь, несколько раз за вечер меняя сигареты – «Кэмел», красное «Мальборо», потом почему-то «Салем». В старых, выцветших до дыр джинсах, благоухающем кашемировом свитере, борода с благородной проседью, поблескивающие в вечернем свете дорогие очки. Петюня. Рафинированный интеллектуал, лучший московский журналист, автор колонок во многих престижных изданиях.
Любимый Петюня, некогда унылый возлюбленный, но не по увлечению или страсти, а от любопытства, и возможно именно поэтому такой любимый, родной, понятный.
– Вот ты говоришь, его мамаша любит золото и носит большие кольца. Одевается шикарно, любит сумки с пряжками, туфли с пряжками, большие золотые пуговицы. Через день визиты к парикмахеру, через день к массажисту, говорит медленно, приторным голосом – все свидетельствует только об одном – ни одного полноценного головокружительного оргазма за всю жизнь. Отдавалась от понимания, выходила замуж от понимания и даже деньги любит от понимания, а не искренней любовью. Прости, котеночек, но своего сына она тебе не отдаст, даже в короткое пользование.
– Почему ты так говоришь?
– А ты всерьез хочешь, чтобы она принесла тебе своего единственного сына на блюдечке с голубой каемочкой? Своего птенчика, который на двадцать лет моложе тебя? Сколько ему?
– Девятнадцать.
– Извини, ошибся, больше чем на двадцать.
Ты продолжаешь рассуждения. Пытаешься поставить меня ногами на землю. Искренне переживаешь, боишься, что сильно рвану душу. «Переспали – и слава Богу, – повторяешь ты. – Получила удовольствие и – молодец».
Я вижу, как ты выстраиваешь рассуждения – опытно, умело, безупречно. Хочешь, чтобы я взглянула на ситуацию со стороны, чтобы взяла дистанцию и разыграла историю так, как положено их играть в мои сорок пять – без истерик и надрывов.
Я не слушаю тебя, потому что ты прав. Я сижу с холодными ногами и мелкими глотками отхлебываю остывший чай.
– Значит, никаких шансов?
– На что, мать? Ты рехнулась?
Все. Этот разговор дольше вести нельзя. Нужно менять тему. Спросить о последних фильмах-спектаклях-блядях-твоих новых нашумевших статьях. Ты любишь об этом говорить.
– Что, давно не влюблялась?
– Давно.
– Как его зовут-то?
Я знаю, что это вопрос-тест. И я знаю, что ты это знаешь. Если я застряну и не смогу быстро ответить – плохой симптом. Значит, втрескалась как девчонка. Семь, восемь, десять, одиннадцать. Больше тянуть нельзя.
– Я слышу твой вопрос, Петюня. Его зовут Марк.
Весь следующий день до твоего прихода – как в вате. Слепые глаза, не видящие смет, заваливших мой стол. Дрожь от каждого телефонного звонка. Ранний рывок домой и умопомрачительное переодевание перед зеркалом. Какой я должна быть? Домашней? Нарядной? Привычной для тебя – в тех же джинсах и той же майке?
Шорохи на лестнице. Скрип лифта.
Вошел очень быстро, в костюме, галстуке, с дорогим портфелем в руках. Огляделся. Скороговоркой произнес: «У тебя красиво».
– Проходи.
Сел в кресло, в котором вчера сидел Петюня.
– Хочешь чаю, кофе?
– Кофе.
Молчишь. Смотришь в сторону. Чувствую спиной, пока готовлю кофе. Сажусь напротив. Смотрю в сторону.
– Я очень скучал.
– Я тоже.
Шквал поцелуев, объятий, вопросов, почти что слез.
– Что делать?
– Ничего не делать.
– Что значит ничего не делать?
– Жить.
А что вообще можно делать? Я уже давно огромным волевым усилием оставила всякое стремление в будущее на том берегу реки. На том берегу, где царили другие законы – вера в то, что тебе принадлежат большие решения и ты хочешь проводить их в жизнь. Все складывалось, получалось совсем не по тем схемам, которые я рисовала в своей голове. Берем только один прогноз – завтра будет завтра, а вслед за утром наступает день, вечер и ночь.
Все осталось там, на том берегу – зароки, надежды, уверенность в людях и в себе самой – вот заканчивается весна, в открытую форточку дует уже теплый ветерок, вот приехал контейнер с новой партией одежды, жить, думать, действовать только здесь и сейчас, максимально точно, чего бы это ни стоило – пота, крови, нервов. И главное мужество – принимать неопределенность, абсолютную свободу будущего, его неподконтрольность тебе.
Да, и бояться поскользнуться и разбить коленку, не увидеть чьих-то мастерски расставленных сетей, проступающего четвертого измерения – дурных слов, примет, осторожно резать ножом, осторожно подбирать с пола осколки – но не более того, не более, чем записано почти что в каждом жизненном рецепте «Китайской книги перемен», по которой сходят с ума все мои подружки, включая Марину: «Сиди на пне, и хулы не будет».
– А хочешь, я расскажу тебе, как написался мой бизнес?
Ты улыбнулся… Хмыкнул.
– А что, давай.
– Ездили чартерами в итальянское захолустье, затхлые городки, где блочные пятиэтажки, снимали отели за копейки, с тараканами, ломкими перегородками и похотливыми воплями по ночам, сами возили чемоданами, сами продавали по знакомым.
– Зачем я должен это знать?
– Сама не знаю.
– Я в курсе, как вы начинали. Понятно, что если не воровали нефть и алюминий и не были при государственных ресурсах, ну так муж во Внешторге или директор какого-то завода. Тогда можно было только так. Дурацкое было время, и, если хочешь, мне тебя ужасно жалко.
– Я думала, тебе будет интересно.
– Эти ребятки, неважно – мужчины, женщины – просто очертя голову бросившиеся выживать. Эти чартеры в Турцию, и эти автобусы в Румынию, когда туда везли со взятками таможенникам и прочими мерзостями – лавровый лист, а оттуда – дешевую косметику и розовое масло. Поэтому они, то есть вы, теперь такие жестокие.
Я целую твою жаркую макушку. Я обнимаю тебя за шею и говорю тебе на ухо нежности. Я закрываю глаза и за секунду успеваю увидеть гигантский цветной сон – где море лилий и фиолетовая полоска горизонта. В эти минуты я знала, что есть только одно табу – спрашивать: позвонишь ли, и когда, придешь или нет.
И, конечно же, нарушаю, пускай даже упаковывая это нарушение в самые безупречные формы.
– Ты когда объявишься-то?
– Позвоню.
– Позвони.
Уже второй вечер, ложась спать, ловлю твой запах на подушке. И впадаю в ощущение сильной тревоги. Хочу, что бы ты был рядом и одновременно хочу, чтобы все это уже завтра оказалось просто кошмарным сном.
Проклятое кино, начинающее предательски крутиться в голове в сотый, тысячный раз. О'кей, опять двадцать пять. Сначала так сначала.
Вот мы приехали, аэропорт, многоязычный многоголосый рокот, такси с громким радио и неудержимо болтающим на плохом английском водителем, тут же предложившем нам купить за бесценок какие-то амулеты, утомительное размещение в светлой гостинице с просторным холлом.
Я с моей непроходящей усталостью на лице, твердым намерением прочитать пару детективов и загореть. Мариночка в неизменных перстнях, с четким выговором благородных истин, ее спутник француз Жан-Поль. И ты, мои амур, в очках с металлической оправой, длинной шеей, коротковатых джинсах и широченной майке, дурацкий мальчишка, которого, как потом выяснилось, еще и пришлось сюда тащить волоком.
В сотый раз переворачиваюсь на правый бок. Если согнуть колени и высунуть из-под одеяла правую ногу, так чтобы чувствовать, как дует из форточки, может быть, удастся уснуть. Твой запах на подушке, мон амур. Так нельзя, нужно все-таки сменить наволочку и перестать задаваться вопросами.
Ты забегаешь во время обеденного перерыва в банке, и каждый раз мы уходим с тобой на другой берег, от которого я когда-то с такой силой оттолкнулась ногами.
Ты сжимаешь меня в объятьях прямо в коридоре, откровенно целуешь, обдавая мое нёбо вкусом только что выплюнутой мятной жвачки, пытаешься проникнуть рукой под майку или расстегнуть блузку, но непременно цепенеешь, когда моя рука расстегивает пуговицу на твоих джинсах.