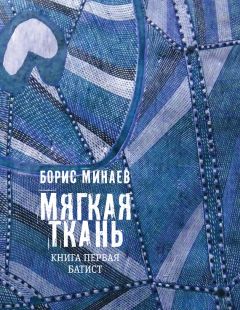Борис Минаев - Мягкая ткань. Книга 2. Сукно
Убью я его, сказал он напоследок сухо, учти.
Слова эти были весомы и в общем даже в каком-то смысле справедливы. Она и сама не хотела больше так жить.
Не зажигая света, подошла к печи. Там, накрытые тулупом, спали мальчик и девочка. Она стояла и думала: кого в приют?
Свою девочку или его мальчика?
Возле печки было душно, тепло, спокойно, ей и самой хотелось туда забраться, на полати, к ним, обнять, прижать, может, поплакать и хотя бы на время заснуть, но было нельзя – надо было что-то решать: мальчика, девочку. Или как-то еще…
Утром, когда Матвей попросил чаю – оттуда, снизу – Матрена аккуратно отодвинула половик, открыла подпол за железное кольцо и кинула туда его весь, этот горячий, кипящий чайник. Он страшно закричал, завыл, потому что было больно, а она сказала звонко:
– Матвей! Все идут, и ты иди! – и закрыла крышку обратно, задвинула половик и пошла в огород.
И Матвей ушел на войну.
Глава вторая. Республика Светлое (1919)
Почему Даню Каневского не расстреляли тогда, в 1919 году, было никому доподлинно неизвестно, знал об этом наверняка лишь народный есаул Почечкин (ударение на первом слоге), принимавший такое решение, но спросить его об этом Дане как-то не довелось, есаул взял да и отвернулся, понимай, мол, как хочешь. Однако участие в этом эпизоде Нади Штейн, разумеется, было совершенно бесспорным фактом, и факт этот, ставший потом семейной легендой, многое определил в его, Даниной, жизни.
Проезжая потом, примерно через год, станцию Светлое на агитпоезде «III Интернационал», Даня Каневский даже невольно закрыл глаза, чтобы не видеть очертания знакомой площади. С одной стороны, он был по-настоящему рад, что в последний момент маршрут изменили и решено было тут, в этом самом Светлом, не останавливаться и не делать никаких митингов, концертов, лекций, театральных постановок, дабы больше времени провести в других, более важных для агитационной работы местах. С другой стороны, наверное, он был бы внутренне удовлетворен, если бы Миля, его младший брат, начальник агитпоезда, и он сам (замначальника по административно-хозяйственной части) вдруг взобрались на трибуну, здесь, в этом самом Светлом, да, вот именно на трибуну, это были такие грубые свежеструганные доски на четырех или восьми столбах, врытых в землю, некий настил, который быстро делали плотники к их приезду, к прибытию агитпоезда, и на вот этих грубых свежеструганных досках всегда проходил первый митинг, и было бы очень неплохо увидеть Милю, да и себя тоже, пожалуй, вот на этом настиле, на площади, в большом этом селе под названием Светлое, где его когда-то хотели расстрелять. То есть увидеть Милю и себя на этом возвышении, временном постаменте, чтобы взглянуть сверху на этих людей, и чтобы эти люди тоже смотрели на них с почтением и даже некоторым страхом, чтобы убедиться в том, что это победа, окончательная победа. И, кстати говоря, Миля спрашивал его об этом: а не хочет ли он заехать в это самое Светлое, чтобы они (вот все эти) вспомнили, чтобы им там всем стало стыдно; он спросил его об этом как-то мельком, не настаивая, но Даня не хотел, он молча отрицательно покачал головой, нет, ему не хотелось вновь переживать эти мучительные мгновения, нет, не хотелось, ни за что…
Итак, агитпоезд «III Интернационал» спокойно проехал мимо станции Светлое, где еще полтора года назад располагалась столица народной республики, а главой республики был как раз вот этот самый народный есаул Почечкин (ударение на первом слоге), низкорослый человек с густыми усами и как бы белесым, вроде бы даже совершенно пустым взглядом из-под темных густых ресниц.
В этой столице народной республики, которая охватывала аж два больших уезда плюс еще три волости, просидел Даня Каневский в 1919 году почти три недели в качестве заключенного в подвале бывшего городского банка, где, наверное, когда-то хранились немалые ценности и наличные деньги. Была в Светлом еще и нормальная тюрьма, при полицейском участке, но там отбывали срок обычные воры-карманники и прочие грабители, доставшиеся народной республике чуть ли не по наследству от царского режима. Однако тюрьму взорвали, и злодеев всех выпустили, сразу после революции; правда, неумело взорвали, так что пользоваться ею было все равно можно, стена, конечно, обвалилась, торчали пустые глазницы окон, но в целом, внутри, она была еще вполне пригодна к эксплуатации. Но Даня должен был сидеть отдельно от воров, карманников и шулеров, и насильников, и прочих фармазонов, которые тут же образовались вновь, именно отдельно, ибо судьба его была неясна и ожидала своего решения в высших сферах, а в каких именно, сказать было невозможно, ибо республика Светлое никому не подчинялась, ни от кого не зависела, ни к кому не старалась примкнуть, а желала жить исключительно своей, отдельной жизнью, то есть своим умом, а также честной торговлей с остальным миром. Что, впрочем, пока еще было не вполне до конца возможно в силу общей сложности происходящих мировых процессов.
Ясно было лишь одно: что судьба Дани Каневского, как очевидного большевика и к тому же еще шпиона, имела два простых решения – расстрелять сразу или же расстрелять потом, после показательного суда.
Никаких других решений она не имела.
Вообще в том 1919 году (как и в следующем, как и в предыдущем) расстреливали людей в России (то есть в бывшей Российской империи) очень много, очень часто и по совершенно разным основаниям, и иногда, откровенно говоря, даже случайно.
Расстрелять могли от скуки, из чувства долга, по глупости или от особого склада ума. Могли расстрелять по соображениям как идейным, так и административным, расстрелять, чтобы устроить праздник или заглушить горе, основания были разные, но конец все равно один и тот же…
Расстрелять могли даже из милосердия, если пленников, скажем, элементарно нечем было кормить, и вот, чтобы они не мучились животом, цингой, поносом, чтобы не мерли в жутких мучениях, их иногда расстреливали тоже (хотя и не должны были), даже и по этой вполне гуманной причине…
«Социальная справедливость» (или, по-другому, «мера социальной защиты») была, конечно, наиболее распространенной и важной мотивацией расстрела, но ведь и тут имелись варианты, оттенки и весьма сложные случаи – ну вот, в частности, как с Даней.
Таким образом, расстрел был тогда, если можно так выразиться, довольно распространенной формой жизни, поэтому Даня поначалу решил относиться ко всему философски, принимал пищу нехотя (а зачем?), попросил бумагу и карандаш, чтобы написать напоследок трактат о развитии будущей коммунистической промышленности, но с этим как-то не получилось, и вдруг унылое существование в ожидании грядущего расстрела показалось ему необычайно привлекательным, неожиданно ярким – ну, к примеру говоря, каждый вечер ему давали вареный картофель на ужин, немного, но давали, и вот он теперь ожидал этого момента целый день, глотая слюни и представляя себе эту разваренную дымящуюся картошку с щепоткой крупной соли. В картошке была какая-то смутная надежда – если кормят так по-царски, то, может быть, в его жизни видят смысл? Но лучше об этом было не задумываться, и он не задумывался.
Неожиданно вкусна оказалась не только эта ежевечерняя разваренная картошка, глубокий и нежный вкус обнаружился вдруг у многих самых разных вещей. Например, холодная вода – Даня нашел во вкусе чистой воды массу оттенков, которых раньше не замечал. «Вода – это чудо» – записал он на своей бумаге, предназначенной совсем для другого. В другой раз ему пришли в голову стихи: «Вставай, рассвет багровый, ты вечности глоток…». Но дальше этих двух строк дело не пошло. Поэтому очень часто он сидел и просто рисовал на этой бумаге, что тоже было необычно – никогда раньше он не рисовал и даже не пытался… Даня выбрал один листок, на котором выводил женские лица, а на другом он решил рисовать только природу – угольные терриконы Донбасса и пирамидальные тополя. Сочетание этих линий приводило его в восторг, так же как вода, картошка, воздух, косые лучи солнца на рассвете и всякие другие нежные детали жизни…
Конечно, Даня Каневский, как всякий образованный и разумный человек, заранее готовил себя к подобному повороту событий. Нужно было сформулировать в голове какую-то «идеологию» или даже «философию» своего расстрела, ведь в бою умирать не страшно, там волнение, там прыгает сердце, там даже испытываешь некоторый восторг, то ли ты сам убьешь, то ли тебя убьют, а вот смотреть в глаза хладнокровным палачам – это совсем другое, поэтому готовиться нужно заранее. И Даня был готов: «ну и что?» – убедительно говорил он сам себе, и, собственно, все дальнейшие рассуждения были уже не так важны, это знакомое ему чувство, которое он начал культивировать в себе давно, когда еще только встал на эту дорогу: сопротивления, борьбы, подвига, да, убьют – ну и что? посадят в тюрьму, отправят на каторгу – ну и что? казак разрубит шашкой напополам – ну и что? потону в проливе – ну и что? – он готов, он всегда был готов к такому, потому что в его сердце, в его душе находилось нечто большее, чем его физическое существование, чем все эти мышцы, нервные окончания и плавно перетекающие жидкости, он сам был намного крупнее, важнее, ценнее, чем все эти отдельные, частные, нелепые случаи физической смерти, то есть, другими словами, его личность, его человеческое «я» возвышалось над этими угрозами, как скала, нет, как огромная гора, нет, как грозовое облако в вышине неба, то есть как нечто величественное, что не может исчезнуть. Оно просто перейдет в иную ипостась, в иную сферу, и этого достаточно, чтобы встретить смерть спокойно, да, встретить спокойно. Но вот тут, в этой одновременно смешной и страшной «народной республике», в этом огромном, совершенно тихом селе, с этими белыми мазанками, с этими старыми купеческими домами с гипсовыми колоннами, Даня вдруг ощутил – что нет, не «ну и что?», он разжевал в картошке, распробовал в воде что-то такое, чего раньше как будто и не было в его жизни – смысл малейших проявлений своего тела, смысл простого качества (простых физических качеств) всего сущего и окружающего. Например, в этом подвале, бывшем подвале банка, где держали свои вклады местные купцы и мещане, имелась такая хорошая, мощная кирпичная кладка, и вот кирпич этот на уровне лестницы был такой прохладный, влажный, он будто слезился, как глаза старого человека, это было даже удивительно, простой кирпич, а он был живой, Даня гладил его ладонью, вспоминая все виденные в жизни кирпичные стены – например, стену старой крепости в Клермон-Ферране или кирпичные стены в родном Харькове. Все они будто стояли перед глазами, все они излучали эту влажную прохладу, и он сам плакал, глядя на этот дурацкий кирпич…