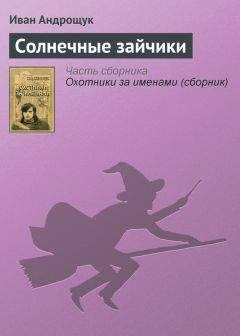Алексей Слаповский - Гений
А Таранчук за долгую жизнь научился спокойно ждать и терпеть. Слишком часто в этой жизни, так уж она устроена, приходилось ждать и терпеть. И если начнешь думать – как, почему, зачем, становится все горше и хуже на душе. Поэтому Георгий Владимирович просто отпускал свои мысли, как сонный возница роняет вожжи и лошади бредут сами по себе. Умение впадать в безмыслие очень помогало Таранчуку на многочасовых милицейских дежурствах, которых у него бог весть сколько было с начала службы. Другие читают, слушают радио, смотрят телевизор, решают кроссворды или, кто современный, шарятся в интернете, Таранчук ничего этого не любил. Он наливал чай в большую кружку с рисунком горы и моря и надписью «Гагра» (там они отдыхали с женой по путевке тридцать два года назад), садился за стол и погружался в особенное состояние, которое ему очень нравится. Нет ни воспоминаний, ни образов, только какая-то дымка, а потом и она исчезает, появляется невесомость и прозрачность без конца и края, и ты словно плывешь в ней, не ощущая себя. То, чего десятилетиями неустанных упражнений добиваются буддисты, желая достичь нирваны и просветления, используя различные практики, в частности такую сложную, как медитация на пустоте, Таранчуку давалось легко и естественно. Но, блаженствуя, он не подозревал о своем блаженстве и удивился бы, если бы ему о нем сказали.
В отличие от него, Вяхирев строил планы самые фантастические. Напасть на одного из солдат, закрыться им, чтобы не стреляли. Солдат будет заложником. Вместе с ним он выберется, а дальше – видно будет. Или: попроситься в туалет. Рано или поздно выведут. Скорее всего, это будет не туалет, откуда он здесь, а какие-нибудь кусты. Пойти в кусты и дать деру. Да, будут стрелять, да, есть риск, но это лучше, чем сидеть унизительно в несвободе и темноте. Ну не дураки ли те, мимолетно подумал Вяхирев, кто совершает преступления, зная, что могут сесть в тюрьму, где ты становишься рабом чужого распорядка? Для профилактики каждого гражданина надо на один день посадить в тюрьму. Расход не такой уж большой, а эффект будет значительный. Или просто провести по тюрьмам и показать, каково там. Отличная идея![48]
Лишь бы открыли дверь, думал Вяхирев. Ему почему-то казалось, что, как только откроют дверь, появится шанс. Главное – увидеть волю, увидеть небо. Даже удивительно: всего-то час или полтора он не видит неба, а соскучился так, будто год его не видел.
Точно так же и Аркадий, щупая ноющее плечо, смотрел на дверь и думал: лишь бы она открылась. Пусть попробуют загородить, пусть бьют, стреляют, он будет ломиться с ураганной силой, он всех расшвыряет – Аркадий чувствовал в себе такой прилив гнева и силы, что ему всё казалось возможным.
Анфиса же заснула, полулежа на мешках с картошкой, и не слышала звонка телефона. Это звонил Торопкий, чтобы сказать, что он скоро приедет и выпустит ее.
Не отвечает, обиделась, подумал он.
Поставил машину Вяхирева у отделения милиции и на минутку забежал в администрацию, чтобы сообщить Марине Макаровне о происходящих событиях.
– Арестовали всю нашу милицию в полном составе! И увезли. Правда, и сами все уехали.
Но у Марины были уже новые сведения:
– Никто не уехал, только что звонила одна женщина, на окраине живет – опять на нас двигаются, будто штурмом хотят взять.
– Марина Макаровна, но это же полный произвол во всех смыслах! У нас разве тут уже война? С какой стати армейские забирают милиционеров, это же по другому ведомству! И стрельба какая-то была, вы слышали? – это они уже пристрелку, что ли, вели?
– Может, третьяки?
– Третьяки – миф и выдумка!
– Если бы. Даже не знаю, что делать.
– Уж, по крайней мере, не субботники устраивать! – с либеральным ехидством сказал Торопкий.
Марина не сочла нужным обижаться.
– Да только что был, а то бы устроили, – вздохнула она.
– Еще можно с хлебом-солью встретить любимые войска, которые нас то ли освобождают, то ли защищают, только непонятно от кого!
– Ты, Леша, не юмори тут, а если умный, предложи сам что-нибудь.
– Предлагаю! Сделать официальное заявление. Я в экстренном порядке выпускаю газету. Размещаю информацию в Интернете.
– Про что?
– Про то, что армия воюет с собственным народом.
– Так не воюет еще.
– Будем ждать, когда начнет? И как не воюет, если троих уже арестовали!
– Не просто же так, они сами виноваты – ездили с этим Мовчаном, надо им это было.
– Ну да. Теперь объявят врагами народа и расстреляют на площади! При стечении народа, чтобы никому не повадно!
– Глупости какие ты говоришь. В общем, давай-ка пока не поднимать пыль. Посмотрим, а там видно будет.
– Пока мы будем смотреть, явятся какие-нибудь зеленые человечки, и завтра вот тут, в вашем кабинете, будет сидеть комендант, а во дворе будут рваться снаряды!
– Не пугай, Торопкий, у меня и так голова кругом, – устало сказала Марина Макаровна. – Трансформатор вот полетел, который у кирпичного, сотня домов без света остались, вот действительно проблема. Аскаридиса второй час не могу найти.
– Это который электрик?
– Именно. Главный энергетик по штатному расписанию. Был вот Митрофанов, царство ему небесное, главным не значился, выпивал каждый божий день, но любую поломку устранял в мановение ока.
– Мгновение.
– Что?
– Правильно говорить – мгновение ока. Мановение – это руки. Жест.
– Твою-то мать, Торопкий, прости на добром слове, нашел ты время меня русскому языку учить! Уйди, не мешай работать! А что там касается армии и прочего – не наше дело!
Торопкий хотел поспорить, но вспомнил об Анфисе и ушел.
В то время, когда он спешил домой, Нина и Евгений уже миновали границу в укромном месте, в объезд Грежина, и оказались у дома, стоящего на отшибе, над крутым склоном оврага. Здесь, на склоне, устроен был сад и огород, земля спускалась террасами, несколько ее плоскостей укреплены были широкими и толстыми досками, а также полосами вкопанного в землю шифера.
– Евгению это напомнило рисовые террасы Китая и других стран Юго-Восточной Азии, – сказал Евгений.
– Ты в Китае был? – рассеянно спросила Нина, внимательно глядя по сторонам и опасаясь, что ее российскую машину увидят те, кому не надо.
– Интернет, – коротко ответил Евгений. – С его помощью я путешествую по всему миру.
Дом тоже что-то напоминал, а именно – традиционную украинскую хату, он был обмазан и побелен, окошки маленькие, со ставнями, только крыша не соломенная или очеретяная, а из крашеной жести.
– Машину тут оставим, – сказала Нина. – Тут тетка моя живет двоюродная, по маме, тетя Поля. Старенькая уже, всю жизнь в местной школе проработала учительницей литературы, а дядя Ваня, Иван Афанасьевич, в той же школе был учителем труда. Тоже всю жизнь. Вроде того – сельская интеллигенция. Лет пятьдесят назад познакомились, поженились, потом вот этот домик купили, дядя Ваня садоводом хорошим оказался, видишь, сад какой – и яблони, и сливы, и груши, а за домом у него бахча, дыни выращивает, очень дыни любит. Пятьдесят лет – и все время вместе, и на работе, и дома, а детей нет, значит, все время друг другом занимаются, представляешь? Чтобы столько вместе прожить, это я не знаю, это прямо рекорд Гиннесса! Нет, живут, конечно, некоторые, и даже больше, но так, как они, ни разу не встречала. Друг друга зовут – Полина Ивановна, Иван Афанасьевич, не всегда и как бы не всерьез, а с другой стороны, может, и всерьез, привыкли, наверное, в школе, там же все друг друга по имени-отчеству. Сейчас нам главное – отбиться от обеда. Если начнут кормить – все, на два часа застрянем. Коржики, пирожки, вареники, а потом дядя Ваня дыню притащит, заставит попробовать.
– Пятьдесят лет – много, – сказал Евгений.
– И я о том же. Я вот с Аркадием почти десять лет, и уже кажется – целая жизнь прошла. А если представить, что еще сорок? Мы оба с ним не сахарные, как выдержим, неизвестно, – задумчиво сказала Нина.
Но задумываться было некогда, они уже подъехали к забору, увитому плющом, вышли и через калитку направились к дому.
Через крошечные прохладные сени, открыв уютно заскрипевшую дверь, попали в дом, первая комната которого была кухней, за нею, за белой двустворчатой дверью высотой меньше среднего человеческого роста, угадывалась еще одна комната, скорее всего, единственная.
Старушка в белом платке с румяным лицом стояла у конфорки газовой плиты и помешивала в тазике варенье деревянной расписной ложкой.
– Тетечка Полечка! – Нина обняла старушку, поцеловала в щеку. – Извини, что без предупреждения.
– Ничего, я рада, – сказала тетя Поля и отвернулась.
– Ты чего это?
Нина зашла с другой стороны, заглядывая в лицо, тетя Поля опять отвернулась, но зато теперь ее увидел Евгений. И сказал:
– Евгений много в жизни видел слез. Слезы боли, слезы обиды, слезы горя, слезы потери. Слезы потери самые печальные. Боль проходит, обида забывается, горе утихает, а потеря навсегда остается потерей.