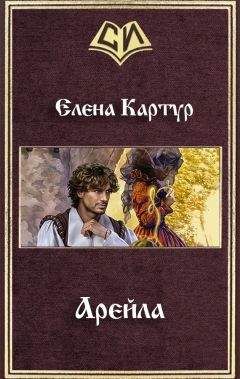Майя Белобров-Попов - Русские дети (сборник)
5
Был здесь и кто-то ещё, не только Няни, мелькали чьи-то весёлые тени, но словно за тонкою пеленою. Мой Няня сказал мне: «Трудно видеть то, чего не можешь постичь».
Я спросил:
– А где твоя мама?
Он сказал: взгляни, что ты видишь?
Я видел свет, и от этого света всем бабочкам и красным в чёрную точку коровам, всем пташкам и няням с корзинами яблок, пингвинам, фазанам, козявкам… было так хорошо! Будто на всех на них смотрит их мама. И немного щекочет их своей длинной чёлкой.
– То, что ты видишь, – сиянье Начального света, это горит Незаходимое Солнце. Оно-то и смотрит на нас, и все мы – его дети. И сам ты, и твоя мама.
– А папа?
– И папа, и баба Нина, и котик, и голуби, и павлины.
– А что, если Свет погаснет?
Но Няня только прижал меня к себе крепче, поцеловал в лоб и проговорил, глядя мне прямо в глаза:
– Главное, никогда ничего не бойся. Этот Свет никогда не погаснет, Он – наша надежда и неизреченная милость.
Няня тпрукнул мне в живот, так иногда делала мама. А это и была, оказывается, мама. Я хотел есть! Очень-очень, я же так нагулялся сегодня, мам. Ты долго-долго кормила меня. Папа смотрел, и я ощущал его затылком, потом папа дул мне в затылок немного, чтобы я больше маму не ел и остановился. Он мне не мешал, и я всё равно ел маму. Потом мы долго ещё играли с папой в мячик. Котик тоже играл. Я смеялся.
6
Я лежал один и видел там облака чистые-чистые, в поднимающем руки рассвете, и знал: «Няня – рядом. Няня сейчас придёт». Тут я расслышал плеск внизу, быть может на дне двора, под нашим окном, – так плавники раздвигают воду. Небо подёрнул сумрак. На нём появилась тёмная-тёмная, фиолетовая туча, из тучи вылупился чёрно-фиолетовый ёрш с горящими красными глазами. Он ужасно пах. Тинистой гнилью. Я закрыл глаза, но в ответ он стал только больше. И глаза разгорелись ярче.
Ему не хватало. Ему всегда было нужно ещё. Он дымился неудовлетворённостью цвета тучи. Желтоглазый, с плавниками, отливающими в топкую болотную зелень, он медленно, упрямо плыл на меня. Чтобы проплыть меня насквозь и оставить дыру, а потом всю жизнь будет кровоточить эта чёрная рана, эта прорубь «ещё!», «не хватает!» «дай!».
Я заплакал. Ёрш ответил мне: «Сейчас продырявлю тебя, малявка!» И раскрыл рот пошире, а там оказались острые мелкие зубы! И жёг, жёг мне лицо глазами.
Мама. Как я кричал! И ты прибежала. Ты взяла меня на руки, дала сисю. Я не хотел! Я боялся! Тогда ты стала ходить со мной и качать. И ты пела про волчка, твою любимую песню, что он ни за что никогда не придёт ко мне! «Этот серенький волчок ни за что к нам не придёт!» И ёрш застыл. Остановился. Ему не понравилось, как сильно ты меня любишь. Он больше не плыл, замер. Но не исчез. А ты всё качала меня и пела. Потом ты устала и перестала петь. Ёрш сразу же снова поплыл, разинув пасть. Я опять закричал, и ты снова меня качала. Он не плыл, ты садилась, он плыл – я кричал. Ты качала и пела. А потом ты села со мной на стул и заплакала горько-горько.
– У меня нет больше сил! Понимаешь, у меня нет больше сил!
И закричала:
– Я не могу больше тебя качать! Я качаю тебя с пяти утра, а сейчас уже восемь. В десять придёт бабушка Нина, но до этого я умру.
Ты впервые кричала на меня, мама… Вот что сделал с нами фиолетовый ёрш.
Потом ты сказала: «Прости».
И уложила меня в кроватку, и ёрш поплыл снова, но я уже не мог кричать от усталости и сжавшего горло страха.
Ты сказала:
– Спасибо тебе, мой мальчик, спасибо, что ты не кричишь больше.
Ёрш раскрыл свою пасть, он был уже у самой кроватки! Но тут я увидел Няню. Няня мчался из неба быстрей, быстрей и мечом-лучом обоюдоострым пронзил огнеглаза. Он порвался в мутный дым, вонь. Стало очень вонюче.
А ты сказала:
– Господи, чем тут так пахнет? Неужели ты пукаешь так? Значит, это всё же животик. Надо срочно вызвать врача.
И опять взяла меня на руки и стала нюхать, но памперс был пуст. Я не пукал, мама! Мой живот не болел.
Ты сказала:
– Надо же, нет. Ты пахнешь только собой – так сладко!
Няня стоял с тобой рядом. За окном сиял свет. Вернулось утро.
Я жадно ел тебя и больше не плакал. Вы качали меня, ты и Няня – вы оба, вдвоём. Мама говорила:
– Прости меня. Я очень устала. Вторая ночь без сна, вот и сорвалась. Ты мой самый…
Но дальше я уже не мог слышать и ничего не видел, только в чёрном бархате спал спал спал спал.
7
Мама, жалость разрывает мне сердце. Жалость к тебе. Мама, это всё мой Няня.
Он ушёл, только что ушёл навсегда, до нескорой встречи. Так он сказал. Мама. Смотри в меня дальше, смотри, как смотришь. Не надо сисю, не надо бутылочку! Соску – не-е-е-е-т! Мама, ничего этого я сейчас не хочу.
Смотри только, а я буду смотреть в тебя. Так ты услышишь меня. Мама, это не лепет, это печаль. Не смейся, не говори «Болтуша!». Я расскажу тебе свою ужасную боль. Няня водил меня гулять по дивному саду, и сад этот был «моцарт», только легче и бесконечней. Няня часто пел мне, как ты, и баюкал своей полной млека и мёда песней. Я в ней купался. Крылатый, весёлый, простой, ласковый, грозный. Но только что он сказал «Пока!».
– Скоро! для мальчика очень рано! ты заговоришь, наш любимый мальчик. Заговоришь языком человека, не лёгкими и плавными словами, похожими на ветер, вздохи, звуки и «моцарт», нет. Будешь курлыкать, щёлкать и булькать, как все твои братья – люди.
Я молчал, не понимая. А он говорил дальше:
– Я тебя покидаю. Все наши прогулки и язык безбрежного Сада ты незаметно забудешь, но не подумай, что это было напрасно. Вот тебе мой первый подарок, на память. Сладость. Когда ветер любви пройдёт сквозь твою душу, обнимет сердце, ты вспомнишь. Не всё, но эту воздушную сладость Сада. Но когда глубокое горе пронзит тебя, ты тоже вдруг вспомнишь. И это даст тебе пережить, пересилить и ид ти дальше.
– Подожди! Подожди, любимый мой Няня! Неужели ты больше не залетишь за мной, не поведёшь на прогулку? Ты про это мне говоришь? Я не верю!
Он ответил:
– Я тебя ни за что не оставлю. Если только сам не прогонишь меня тысячью дурных дел, волосяной плетью, сплетённой из злых поступков, не исхлестаешь!
– Нет! Никогда.
– Ну, вот видишь. – Он вздохнул, мне показалось, немного грустно. – А я, я просто стану невидим, не огорчайся! Зрение – это так, для развлеченья. Ты же спал и сколько всего уже видел. Но глаза-то твои были закрыты. Значит, не в них дело. Запомни меня не глазами, не памятью зрения, не словами – душой. Я ещё столько раз буду её касаться, исцелять её скорби, но и ликовать с тобой, и смеяться.
Он улыбнулся. И дальше ещё и ещё говорил мне, и речь его была звон колокольцев той ветки. Я всё хуже понимал её. Кажется, он опять повторил, что, едва я заговорю связно, а это наступит вот-вот, я смогу рассказать о тех чудесах, что видел. Но я не должен. Ведь от всех людей, кроме бессловесных младенцев, младенцев и великих святых, этот сад спрятан, скрыты озёра без дна, радуги меж дерев, птицы, звери, говорящие речи, и благоуханные рощи. Всё, что я вижу сейчас, последние мгновения вижу – всё это после того, едва я проснусь, исчезнет. Тот мир наутро растает, останется только этот.
– Но оставлю тебе печать, вот здесь, на твоей головушке, мальчик, – снова он заговорил вдруг совершенно внятно.
Невесомо коснулся макушки, вон там, мамуля. Куда ты любишь меня целовать, там, где уже нарос новый, настоящий пушок.
– Станешь доктором, будешь лечить людей, – говорил он, касаясь. – И как лечить! – Он засмеялся, счастливый. Он мной был доволен. – Значит, и страданий станет поменьше.
– Страданий?
Но он не ответил. А я ощутил, как странный жар боли сейчас же разлился по мне, жар и боль…
– Что это? Что ты сделал со мной? Почему мне так?
– Это? – Он опять улыбнулся. – Жалость. Жалость поселилась в тебе. Вот и всё.
Тихие руки, золотые кудри, глаза синевы – голубь Света, посланец небес, присланный для меня одного, певец чистых песен, защитник меня навек. Положи мне руку, положи, мамочка, вот так, тепло, на животике пусть лежит.
Жалость переполняет меня. Заполняет сначала кроватку, потом комнату по подоконник, потом двор и вот уже целый мир.
Жалость к тебе, моей маме. Потому что ты – мама. Жалость к папе: он кричит, потому что не знает, как ещё, по-другому сделать, чтобы ты любила его сильней, – люби, только люби его, мама. И к бабушке Нине – следующей зимой она заболеет и вскоре сама будет возить коляску с младенцем в чудном саду. И к нашему котику Флоксу – потому что он тигр и любит прыгать на папин стол в белых тапочках на рыжих лапах. И всех, кого я видел и ещё дальше увижу, мне стало жаль. Нет, я не плачу, это просто ветер, он веет повсюду, поднимаясь волной с севера, с юга, и я плыву в нём как его самый любимый друг.
– Мама, дай пить! Дай тють-тють. Ак-кой. Ак-кой это! Киса пить. Дай пить кисе! Коее!
Наталия Курчатова
Шторм
Осенние шторма, говорила мама, подходя к дрожащему окну, за которым через улицу ветер трепал круглую шапку большой липы. Мама росла на Тихом океане, и каждое проявление морского характера местности радовало её. Был шторм, говорил отец, когда они спускались в прибрежную часть парка и собирали чаячьи перья и ракушки с дорожек. Деревья всё ещё подрагивали, как те оконные стёкла, а пляж был аккуратно пропахан бороздами волн, которые чередовались с гребнями плавника. Земля и воздух хранили память о шторме, а его самого, получается, не было – ленивая серая гладь воды чуть заметно рябила; да и какой, на са мом деле, шторм в парке.

![Юлиана Еременко - Один шаг, навстречу жизни [СИ]](/uploads/posts/books/4888/4888.jpg)