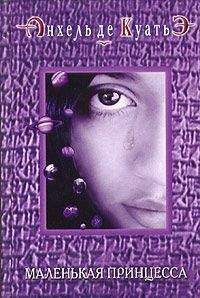Олег Ермаков - Вокруг света
Между прочим, как удалось разведать, Ельнинский большак – самая древняя дорога смоленской земли. Она соединяла Смоленск с Ростово-Суздальской землей через верховья Угры. По старым картам можно проследить, как она шла: от Смоленска в сторону Талашкина параллельно современному Рославльскому шоссе, дальше – на Долгомостье, от этой деревни, упоминаемой в «Сказании о Меркурии Смоленском», на Станьково, дальше – на Васильево и Ляхово, Язвино – и к Ельне.
Так что, доехав до Станькова, я уже точно мог сказать, что попал на древний путь.
В Станькове мне не доводилось бывать, хотя поблизости, в Плескачах, где когда-то находилось родовое имение Марии Митрофановны Плескачевской, матери поэта, мы однажды с друзьями пережидали в палатках грозовую бурную ночь: ветер срывал тент с палатки, а палатку плющил и утюжил, – и утром, когда выглянул наружу, мне почудилось, что вижу поле сражения, но ничего там страшного на самом деле не было, просто потрепанные березки как-то очень пронзительно смертельно белели и чернели в лучах восходящего чистого солнца, и травы сверкали лезвиями, воткнувшихся в землю сабель.
О Станькове я как-то думал прошлой осенью, когда меня запер в палатке над Ливной, неподалеку от исчезнувшей деревни Васильево, нескончаемый тоскливый дождь. Раньше обычно брал с собой в путь какую-нибудь походную тонкую книжку, вот на случай дождя. Но теперь таскал фотоаппарат да штатив. И под надоедливый стук дождя скучал по книгам и думал, что поблизости Станьково и когда-то там была большая библиотека, в барском доме Лесли. Перебирая в ней книги, один из Лесли и обнаружил дневники отца с подробным рассказом о том, как Александр Дмитриевич поднял вместе с отцом и братьями во время наполеоновского нашествия своих крестьян на партизанскую борьбу. И мне мерещились корешки старых фолиантов в отсветах лампы, заправленной маслом. Но тут же я сам и остужал свои мечтания, трезво дорисовывая этот эпизод с появлением в барской библиотеке: вмиг был бы выставлен, а то и побит. Хотя о Лесли и сохранилась добрая память. В книге Я. Р. Кошелева «Народное творчество Смоленщины» есть рассказ, записанный с уст жителей Станькова о помещиках Лесли. Сразу сообщается, что в Ляхове помещик был жестокий, Бартоломей, а вот Лесли были другие, учили деревенских детей, лечили больных – все бесплатно, и даже когда мужики нарубили деревьев в барском лесу и были пойманы, помещик их простил, только в суде постращал да и денег дал на гостинцы, суд проходил в Смоленске. Рассказчики правдиво добавляли, что мужики на те деньги еще и загуляли.
Одно дело читать все это в книге. А мне повезло услышать из первых уст.
Добравшись в Станьково, отправился искать руины барского дома. И сразу наткнулся на одноэтажный кирпичный дом без окон, без дверей, потонувший в зарослях, и немало удивился. Этот дом мне был знаком. Откуда?
В Станьково впервые заглянул… Но уже пришла разгадка, дом снился мне и не так уж давно, может, зимой или пораньше. В доме собрались люди кино смотреть, появился киномеханик; и среди деревенских зрителей был молодой Александр Твардовский. Этому я не особенно удивился, когда пишешь что-то, собираешь всякие сведения о том или ином человеке, герои повести или очерка бывает и снятся. Но вот сейчас ситуация была немного странной: стоял перед домом, виденным только во сне. Сквозь заросли подошел к оконному проему: над грудами досок и кирпичей носились ласточки, мое любопытство их обеспокоило. Они гнездились в этом доме. Некоторые налетали прямо на меня, били крыльями, белея грудками, перед лицом и резко ныряли вбок, взвивались вверх. Освещение было плохое, но я все-таки сделал несколько кадров. Как же, ведь это иллюстрации сна. Впрочем, во сне дом был в порядке, в окнах стекла, крыльцо чистое, за ним дверь. Просторное помещение, стулья. Стрекот аппарата, луч над головами, экран…
На торце дома красовалась надпись «Слава КПСС». Сейчас, в двадцать первом веке, а не во сне.
– Что это за дом? – спросил у белоголового пожилого жителя.
– Клуб, – ответил он и, подумав, уточнил: – Дом культуры.
Мы познакомились. Жителя звали Анатолием Никитичем. В давние времена в клубе он впервые увидел цветное кино.
– Кино крутили? – переспросил для верности я.
Невысокий сухой синеглазый житель кивнул и поправил бейсболку. Вопросительно взглянул из-под козырька. Наверное, что-то мелькнуло в моем лице.
Анатолий Никитич был немногословен. Мне удалось узнать, что родился он в Васильеве и жил там до десяти лет, потом сюда переехал. Его мама Анна Киреевна работала учительницей в четырехклассной школе в Белкине. Потом жили на севере, поехав вслед за осужденным отцом: был он налоговым агентом и запутался в подсчетах и бумажках. Анатолий Никитич работал на севере шофером. Под старость на родину вернулся. Дом его сгорел, и двоюродная сестра – «Паша, вот кто знает местные дела» – пустила в свой дом.
Туда мы и пошли, к Паше.
– Вот, корреспондента тебе привел, Паш, – сказал, входя в избу, Анатолий Никитич.
Ко мне навстречу встала с дивана старая женщина с такими же синими глазами. Звали ее Прасковьей Лаврентьевной. Порассказать о былых временах и сфотографироваться в саду она легко согласилась.
Изба внутри была обычным деревенским жилищем последних времен. Шкаф, диван, стол, стулья. В простенке фотографии. В углу над телевизором икона и снова фотографии.
Прасковье Лаврентьевне было восемьдесят три года, но сквозь некоторую понятную болезненность все еще проступал облик бодрой и любящей жизнь женщины.
Родилась она за Ливной и подальше Белого Холма, в Шилове на речке Волости. Когда-то это была большая деревня – сто пятьдесят дворов. Сто пятьдесят дворов?
– Ага, – ответила она и покачала головой, потуже затянула концы платка. – А сейчас, говорят, живет один человек.
В войну и эту деревню сожгли. В деревне развернулось настоящее сражение между партизанами и фашистами, а мирное население – старики, бабы и дети метались среди горящих хат, и с ними девочка Прасковья. Многие жители сгорели заживо в том огне. А спасшимся еще надо было переправиться через мартовскую Волость. Добрались они до соседней деревни Добромино. Прасковья Лаврентьевна говорит, что в крайнюю избу набилось до пятидесяти человек, там и ночевали, дрожа от пережитого ужаса.
Из Добромина Прасковья с родными дошли до Васильева, где жила ее тетка, а еще раньше дед, работавший мельником. А в Васильеве была нефтяная мельница. И, бывая в гостях до войны у васильевцев, девочка Прасковья все просила деда взять ее в город – мельница ей городом казалась. Дед однажды исполнил просьбу. К мельнице-городу Прасковья приближалась с любопытством и некоторым страхом, открыв рот, что называется. А вблизи попала в облако мучной пыли, расчихалась и опрометью кинулась прочь. Город этот ей не понравился. И если дед в шутку снова ее зазывал, она хмурилась и бочком уходила в сторонку.
Отец ее, Киселев Лаврентий Алексеевич, был ранен на Курской дуге и от ран скончался.
Смуглая рука Прасковьи Лаврентьевны протягивала ветхую бумажку. Это было извещение.
После войны Прасковья вышла замуж за васильевского жителя, плотника – потомственного, можно сказать. Отец его тоже был плотником, звали его Филипп, и с ним дружил отец Твардовский.
– Трифон Гордеевич?
Прасковья Лаврентьевна кивнула.
Простая вещь, местность обширная, и, конечно, кто-то знал Твардовских, кто-то учился с братьями, встречался с родителями…
Свадьба была веселой, продолжает Прасковья Лаврентьевна, купили пять килограммов макарон и сварили. А народу много.
И на всех хватило.
Синие глаза женщины смеялись, скулы приподнимались. У нее было крепкое лицо и временами в нем мелькало что-то боевитое.
И с тех пор она только и делала, что коров доила, стадо было – тридцать четыре коровы.
Но это только так говорится. На самом деле у деревенского жителя множество дел. И швец, и жнец, и на дуде игрец, – это деревенский житель.
И сейчас у Прасковьи Лаврентьевны был огород, сад, маленькая пасека.
Заговорили о Лесли, мол, где стоял дом и как отыскать руины. И Прасковья Лаврентьевна добрым словом помянула этих помещиков, хотя и в глаза их не видела. Но антиподами добрых Лесли у нее были безымянные братья-помещики, жадный из Васильева, у которого работала ее свекровь, и злой из Мончина, а не Бартоломей из Ляхова, как в книжке «Народное творчество Смоленщины».
– Жаль, соседка Ольга Владимировна померла, ее бабка была кормилицей у Лесли. И правнучки Лесли к ней приезжали. А развалины ты за моим огородом, за картошкой, найдешь. – Прасковья Лаврентьевна указала гладкой палкой, на которую опиралась и которую шутливо величала своим конем (а увидев мой нагруженный запыленный велосипед, прислоненный к плетню, весело воскликнула: «Ишь, какой у тебя конь-то!»).