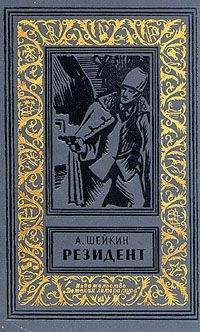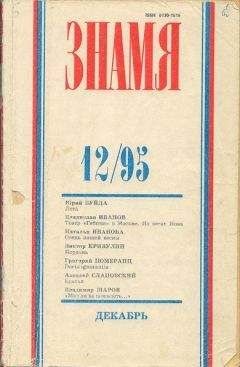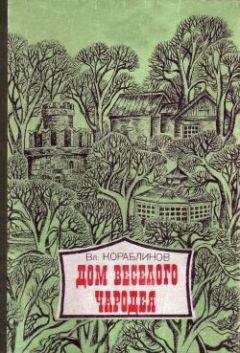Владимир Шаров - Воскрешение Лазаря
Объясняться с мужиком, когда он набрался, глупо, мне, однако, было не до политеса, я хотела одного – поставить точки над i. Едва он вошел, сел, сразу же заявила, что в Инангу не поеду, наоборот, завтра возвращаюсь в Москву. И тут, ничего не говоря, он вдруг становится передо мной на колени и начинает плакать. Это было так неожиданно, что я решила, что Кротов издевается. Он стоял, плакал, а потом все так же на коленях стал ко мне подползать. Больше не молчал, наоборот, скороговоркой, комкая слова, упрашивал не уезжать, не отказываться, и раз мы здесь, в Инте, раз добрались сюда, добить дело. „Ведь тут ваш отец, – повторял он, – тут, рядом, и мы должны, обязаны, пусть мертвого, но освободить его!“
К номеру со слезами и коленями я, конечно, не готовилась, но то ли он фальшивил, то ли еще что, во всяком случае поддаваться на пьяные уговоры я по-прежнему не собиралась. Думаю, он увидел, что не сработало, а может, просто заболели коленки, так или иначе он выпростал из-под себя ноги и теперь сидел на попе прямо у кровати. И сейчас, и раньше плакал он совершенно по-детски, всхлипывал, шмыгал носом, в перерывах же объяснял, что очень-очень перед моим отцом виноват. И исправить ничего нельзя. Но если мы найдем Серегина и перезахороним, он хотя бы отчасти свою вину перед ним искупит.
Я ни о чем Кротова не спрашивала, вопросов не задавала, но они были и не нужны. Сначала он сказал, что незадолго перед кончиной отец, уже тяжело больной, отдал ему на хранение последнюю написанную работу, она была лишь в одном экземпляре, и он, Кротов, зэк с десятилетним стажем, через три дня самым дурацким образом прокололся, попался на шмоне, рукопись изъяли и уничтожили. С тех пор каждую ночь ему снится мой отец, подходит на разводе и говорит: „Что же ты, Сережа, я тебе доверил, а ты не уберег“. Тут я, хоть и дала себе зарок молчать, не выдержала, говорю Кротову, что история, конечно, печальная, но во сне ему является вовсе не отец. Отец был разумный человек, наверняка понимал, что зона есть зона – в общем, отец ни при чем, просто у Кротова напрочь расшатаны нервы.
Почему-то я была уверена, – продолжала Ирина, – что на этом разговор кончится, Кротов уйдет, а я завтрашним утренним поездом уеду в Москву. К сожалению, я ошибалась, бред, что начался дальше, я и представить себе не могла. Кротов больше не плакал, даже вроде бы успокоился, но легче не стало. Все так же сидя передо мной на полу, он ровным, монотонным голосом теперь объяснял, что у отца, кроме него, Кротова, в лагере было несколько близких людей, в частности, патологоанатом Полуянов, работавший в морге при больнице. И вот в день, когда отец умер, Кротов сказал Полуянову, как глупо пропала одна из серегинских работ и что то же может случиться и с остальными его рукописями. Тогда Полуянов заговорил о главном труде Ирининого отца – Серегин сам его так называл, считал, что без этой работы человеку придется дольше ждать спасения и спастись будет еще труднее.
Работа была о Христе и о Святой Троице. „Я, – продолжал Кротов, – ее не читал, но трижды Серегин при мне обсуждал рукопись с другими своими учениками. Суть, как я понял, состояла в том, что Христос не просто центр человеческой и Божественной истории, не только ее средоточие и средостение. Без Христа, вне Христа не может быть понято ничего, что было и будет на земле после Его Рождества, но также – на равных – и все, что было до, с самого момента сотворения мира. То есть Христос, Его воплощение выстраивает и предшествующую историю, жестко отбирает, что к Нему, к Рождеству Христову ведет, остальное же выбраковывается – это не путь, не столбовая дорога, а или грех, или в лучшем случае блуждание без цели и смысла.
И канонический взгляд, – продолжал Кротов, – считает предшествующую историю подготовкой к явлению Христа в мир, но он убежден в линейности времени, в его непрерывном течении от начала, от семи дней творения к концу – Страшному суду и Спасению, для Серегина же Христос и был истинным сотворением мира, истинным началом всего. Именно явление Христа задало миру законы и правила, по которым он должен был существовать, единственно по которым в конце времен мог быть спасен, причем законы обязательные и для прошлого, и для будущего.
Не знаю, – говорил мне Кротов, – точно ли пересказываю, ведь сам рукописи я не читал, не разбирал ее вместе с Серегиным, повторяю лишь, что слышал и запомнил. Кстати уже после лагеря я обнаружил в Библии, что похожее понимание времени было и у евреев. В Бытии говорится, что в Дане, в Палестине сила Авраама ослабла, потому что он узнал, что здесь много поколений спустя его потомки поставят себе золотого тельца и будут ему служить.
Полуянов, – продолжал дальше Кротов, – когда я рассказал, что несколько дней назад на шмоне у меня нашли и изъяли серегинскую работу, предложил, как наверняка уберечь хоть эту. У него была большая двухлитровая бутыль из-под спирта с отлично притертой стеклянной крышкой, словом, герметично и может храниться век, так вот спрятать рукопись в бутыль, а ее при вскрытии он зашьет Серегину в живот – пусть до лучших времен вместе с ним полежит в земле“.
Я, когда услышала про бутыль, – говорила мне Ирина, – оцепенела: ни плакать не могла, ни закричать, только думала, что в Дерпте он часто говорил матери: „Любаня, а знаешь, я беременен одной очень интересной идеей“ или: „Этой идеей я что-то давно, очень давно беременен, а все не разрожусь“. Мать уже после ареста отца рассказывала, что в юности он был человеком до крайности депрессивным, речь даже шла о патологии, о том, что самостоятельно, без постоянной медицинской помощи он существовать не сможет. Слава Богу, родители обратились к Ганнушкину, и тот за два года поставил его на ноги. Я тогда ее рассказу удивилась, потому что человека более спокойного, чем отец, более ласкового и доброжелательного в жизни не встречала. Не одна я так считала: в Дерпте под моими словами подписался бы весь университет. Отец еще говорил матери, что в юности ему часто казалось, что безумие гонится за ним, буквально наступает на пятки, стоит чуть замедлить ход, оно его настигнет. Я думала, что благодаря Ганнушкину или сам по себе, отец, наверное, от него оторвался; теперь же, когда узнала, зачем Кротов тащит меня в Инангу, поняла, что после смерти безумие его нагнало.
Сначала сумасшедшие клирики, на воле в храмах молившиеся за Сталина и за большевиков, а в Инанге, когда он умирал, отказавшиеся его исповедовать. Все они: коммунисты, эсеры, меньшевики, рядом православные, католики, протестанты, среди православных – старообрядцы, никониане, члены катакомбной церкви; в соседней зоне немцы – фашисты и не фашисты – все играли в те же игры, вели себя так, будто никакого лагеря нет и никогда не было, будто лагерь – безделица, о которой и помнить глупо.
Есть хорошая приговорка, – продолжала Ирина, – „спаси нас, Господи, от друзей, с врагами мы и сами разберемся“. Пока отец был жив, безумие лишь подбиралось к нему, ведь в конце концов нашелся латышский пастор, исповедал его, и отец умер, как полагается христианину, тут-то и настало время учеников. Я думала об отце, о них, – объясняла Ирина, – а Кротов все что-то говорил, говорил, но я не понимала, и не потому, что не хотела, просто не слышала, лишь когда он встал с пола и, нависнув надо мной, чуть не кричал, я разобрала. Очевидно, уже не в первый раз он повторял, что бутыль с рукописью отца брошена в море смерти, она там плавает почти четверть века, и мы обязаны во что бы то ни стало ее найти, выловить. В ней истинное учение о Христе и Святой Троице. В ней – добрая весть, без которой нам не спастись.
Он говорил о людях, которые, когда они прочтут, что написал мой отец, убоятся Божьего гнева, и греха сделается меньше, о том, что если я уеду в Москву, бутыль останется в земле, и дальше в новых человеческих страданиях буду виновата я, я одна. Будто он слышал, что я думала минуту назад, он говорил, что отцу плохо от того, что бутыль все еще в нем, ему, Кротову, ночь за ночью снится, что отец ею беременен, и вот он тужится, тужится, а родить не может. Он прямо вопит от боли, а я не хочу помочь, облегчить его муки.
От Кротова, от его снов, от того, что кто-то, решив спасти человечество, зашил в живот отцу бутылку и так положил его в гроб, я совершенно помешалась; у меня ни на что больше не было сил, я сама уже ничего не соображала, была согласна не все, лишь бы и вправду достать из отца эту проклятую бутыль, нормально его похоронить.
Через два дня мы вчетвером – Кротов, вохровец, железнодорожник и я – выехали из Инты. Первые сорок километров были прогулкой, дрезину приторочили к кукушке, рабочему поезду, который шел в нужную нам сторону, на шахту „Светлую“. У шахты мы отцепились и где с помощью стрелок, а где и на себе перетащили дрезину на другой путь, который соединял „Светлую“ и лагерь. До Инанги оставалось еще почти девяносто километров, но мы – за вычетом железнодорожника – считали, что за двое суток легко доберемся. Железнодорожник был мрачен, говорил, что узкоколейка не эксплуатировалась десять лет и там может быть что угодно. Шпалы часто клали без насыпи, прямо на мерзлоту, а где насыпь и была – она совсем хилая, вода ее не то что за десять – в один год размывала. Однако двадцать километров после шахты мы промчались, будто на вороных: колея была нормальной, мужчины не филонили, и тележка шла ходко, за все время лишь раза два колеса сходили с рельсов, но и тут за несколько минут мы ставили ее обратно и катили дальше.