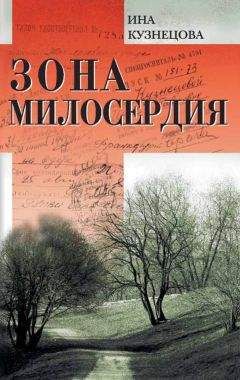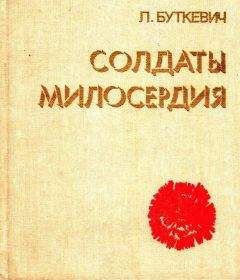Владимир Шаров - Старая девочка
Слушали ее довольно внимательно, но всё же не так, как Вера боялась. Возможно, мать сделала ошибку еще в письмах, которые она рассылала весной, изложив родне суть дела. Матери тоже явно не нравилось, как ее слушают, из-за этого и конец, то есть самое главное, она натуральным образом скомкала. В свою очередь и идущая следом отповедь, приготовленная ею лично для Веры, получилась и невнятной, и неубедительной.
“Конечно, Вера, – сказала она ей, – тебе в жизни немало всего пришлось пережить, но нам всем, всему народу пришлось пережить немало: одной войны, горя, которое она принесла, хватило бы поколений на десять. Вспомни, мы ведь православные, и Христос всем нам завещал терпеть, до конца и без ропота испить ту чашу страданий, которая каждому из нас предназначена. Он и сам подчинился воле Отца своего, на Голгофе принял крестную муку…” То же, что Вера сделала с собственной жизнью, продолжала мать, – это чудовищный грех; она – человек, ближе которого у Веры никого быть не может, – вообще о таком грехе, о такой почти двадцатилетней укорененности в грехе слышит первый раз в жизни. И пусть никто никому не говорит, что Вера просто живет назад, – она не живет, а уходит, уходит из этой жизни, это медленное, но самое настоящее самоубийство.
Большинство родственников и отца и матери происходили из церковных семей, все они и сейчас искренне веровали, двое из приглашенных сумели и после революции остаться при церкви, сейчас священствовали, были настоятелями храмов: один – в русском селе недалеко от Казани, другой – под Орлом. Теперь они наперебой стали требовать, заклинать Веру, чтобы она одумалась и остановилась. Они кричали ей, что она должна пойти в церковь, впервые после своей юности пойти наконец в храм, отстоять службу, а потом исповедаться. Только это, одно это сможет дать ей силы, чтобы остановиться.
Они очень тяжело на нее насели, и в один момент мать поняла, что Вера согласна: противиться она больше не будет и на исповедь пойдет. Больше матери ничего нужно не было, и теперь она стала спрашивать отца Георгия и отца Никодима, как практически всё это можно организовать. Она не желала, чтобы Вера шла в один из ярославских храмов, потому что боялась, что там никто ни во что вникать не захочет, ее просто вполуха выслушают, благословят и отпустят.
Вера видела, что матери нужно, чтобы или отец Георгий, или отец Никодим предложили взять Веру с собой и в своем храме ее исповедовать. Но это было далеко и для них обоих почему-то не очень удобно, в общем, они, как могли, противились натиску матери, и та в конце концов поняла, что настаивать больше не стоит, толку всё равно не будет. Разговор этот еще длился, когда кто-то из родственников вспомнил, что в Ивантеевке, небольшом подмосковном городишке, вторым священником служит отец Михаил, троюродный брат Веры, очень умный и совестливый человек. Это был выход, и мать, потребовав, взяв с Веры слово до конца августа поехать к отцу Михаилу исповедаться, а дальше жить, положившись на его решение, как будто смягчилась. Все следующие дни до отъезда Веры в Москву она была с ней и ласкова, и заботлива, так что Вера в самом деле была довольна, что согласилась.
После того как родственники разъехались, Вера договорилась с матерью, что поедет в Москву двадцать шестого и остановится у материнской тетки бабы Клавы. Двадцать восьмого, в день Успения Богородицы, отстоит обедню в Ивантеевском храме, а исповедоваться к отцу Михаилу пойдет двадцать девятого, то есть на следующий день. Приедет в Ивантеевку первым же поездом и после утренней службы и литургии пойдет. Московский поезд, на который она взяла билет, был очень удобный, ночной, в Москву он прибывал совсем ранним утром, так что в ее распоряжении должен был оказаться целый день.
Двадцать шестого она стала собираться; сначала не знала, в чем поехать, но потом вспомнила, что в сундуках, возможно, еще хранится платье, которое ей сшили как раз в том возрасте, что ей было сейчас, и шляпка, которую мать тогда же купила ей на сезонной распродаже. Она рылась, разыскивая эти вещи, почти до вечера, уже уверилась, что их или подарили кому-нибудь, или в Гражданскую войну выменяли на картошку, как вдруг натолкнулась сразу и на одно, и на другое. Всё было целое, выглядело почти как новое, а то, что смотреться сегодня, в пятьдесят шестом году, это будет довольно странно, ее, признаться, мало смущало. Она надела этот наряд, посмотрела на себя в зеркало и вдруг увидела, что мать права: она в самом деле мила, хороша, прямо барышня на выданье. Она давно не смотрелась по-настоящему в зеркало: почти уже себя забыла и теперь обрадовалась и развеселилась – платье ей и впрямь шло точно так же, как и много-много лет назад. Она не зря, когда его купили, записала в дневнике, что такой хорошей обновы у нее еще не было.
После того как на родственном совете она дала матери слово поехать на исповедь к отцу Михаилу и дальше жить, положившись на его решение, она поняла, что, если не хочет, чтобы он стал ее останавливать, требовать, чтобы она жила как все, необходимо к этой исповеди подготовиться. Конечно, она знала, что заранее до мелочей рассчитать их разговор нечего и пытаться, наоборот, надо довериться своей интуиции, быть быстрой, легкой, готовой к любому продолжению; и все-таки обдумать, как она будет вести себя в церкви, что и как говорить, нужно было обязательно. Но то ли она и впрямь была теперь готова подчиниться матери, то ли было еще что-то, но эту подготовку она перекладывала со дня на день и в конце концов решила, что поезда ей вполне хватит. В поезде, однако, тоже ничего делать не стала, состав уходил в полночь, и к этому времени она уже так хотела спать, что сразу постелила себе и легла.
Не стала она ничего делать и в Москве. В Москву они прибыли ранним утром, еще только светало, но было видно, что день будет ясным и для конца августа удивительно теплым. Всех вещей у нее была только легкая сумка, и она, никуда не заезжая, сразу пошла гулять. Дважды туда-обратно прошла весь бульвар от родного Яузского до Гоголевского, где съела мороженое, была и у их старого дома, а потом долго сидела в Найденовском парке, на той же скамейке под дубом, что и с Колей Соловьевым. К бабе Клаве она приехала поздно вечером, та уже волновалась.
Таких хороших дней у нее не было уже давным-давно, и она почему-то уверилась, что и с отцом Михаилом всё будет в порядке. Следующим утром она с того же Ярославского вокзала поехала к обедне в Ивантеевскую церковь. Сначала надо было полчаса ехать до Болшева, там перейти на другой перрон и дальше – по узкоколейке на маленьком стареньком паровичке еще полчаса до самой Ивантеевки. Городок этот она немного помнила, потому что когда-то они два года подряд летом жили по соседству, в Пушкино, и она пару раз здесь бывала. Она даже помнила, что найти церковь ей будет легко – колокольня видна прямо со станции.
В Ивантеевку Вера приехала заранее, до службы еще оставался целый час, и она не спеша спустилась к здешней речке, потом по берегу, по самому краю воды дошла до моста и только оттуда повернула к храму. Она очень боялась, что с непривычки всю службу не выдержит, и приготовилась, разрешила себе, если будет тяжело – уйти, но ноги, хотя она прошла сегодня уже несколько километров, совсем не устали, и она неожиданно легко, радостно, как вчера гуляла, как ела мороженое, выстояла обедню и вернулась домой донельзя довольная.
Двадцать девятого августа она снова первым же поездом приехала в Ивантеевку. На этот раз храм был почти пуст, прихожан на литургии не набралось и пяти человек, трое, как и она, хотели исповедаться, и Вера, понимая, что времени ей понадобится много, пропустила их вперед. Отец Михаил знал, что она сегодня должна прийти, ждал ее и специально, чтобы она не волновалась и не торопилась, сказал, что никуда не спешит, что он знал еще ее отца, прекрасно его помнит и сделает для нее просто ради ее отца всё, что сможет. Потом он спросил Веру, давно ли она последний раз посещала службу, она сказала, что была сегодня, а вчера, на Успение Богородицы, выстояла всю обедню, он остался этим доволен и сказал, что слушает ее, снова повторив, что никуда не спешит. Было похоже, что мать уже с ним списалась и он принял перед ней и перед другими родственниками какие-то обязательства, теперь же очень боится их не выполнить. А еще мать так его запугала, что он боится, как бы Вера и его самого не ввела в грех. Он так откровенно всего этого боялся, что она его пожалела и, чтобы он больше не мучился и не переживал, сказала, что готова. Он прочитал над ней общую молитву, и она, как в детстве, глядя на лежащие на аналое Библию и распятие, стала исповедоваться.
Еще идя в церковь, Вера решила, что, как и полагается на исповеди, расскажет всё без утайки, всё подряд, ничего скрывать не станет. Так она и сделала, рассказав отцу Михаилу и то, что было до Иосифа, и свою жизнь с Иосифом, и то, как она, когда поняла, что он погиб, повернула назад, в общем, всё со времени своей последней исповеди. Она не скрыла, как обманывала Кузнецова, как ночью круг за кругом обходила его особняк в Ярославле, и он, хоть сначала упорствовал, в конце концов поддался, поверил, что она к нему возвращается, и велел органам ей не мешать. Рассказала отцу Михаилу и про каждого из воркутинцев, которые ждали ее, как и Кузнецов, и про их жен, которые цеплялись к ней на улице, моля, чтобы она, Вера, взяла себе, выбрала кого-нибудь вместо Иосифа и остановилась, перестала уходить назад. Потом рассказала про мать, которая много лет верила и пыталась убедить в этом отца, что Вера, как блудный сын – к Богу, возвращается домой, в семью, что она уходит от всей той жизни, которую выбрала для себя, вступив в девятнадцатом году в партию; она возвращается к ним и должна знать, что они ждут ее и всегда примут.