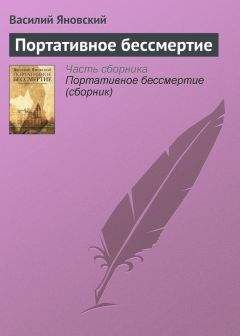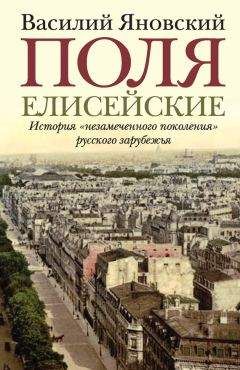Василий Яновский - Портативное бессмертие (сборник)
3
Десятый час. Покидаю больного. Улица; пары, группы, одиночки. Отвратительные женщины зазывают у подъездов, нищие требовательно протягивают руки, пьяные просят на ночлег, армейцы спасения [111] кратко комментируют Евангелие, шоферы ругают незадачливых пешеходов. Уроды, бородачи, гномы, карлы, сатиры с бородавками, прыщами, пятнами, провалившимися носами; размалеванные мальчики, крашеные старухи в брюках. Что-то такое делают кругом, снуют, теребят, жалуются. Я знаю их подноготную. Это все пациенты, бррр! Не хочется есть, пить, спать, видеть друзей. По старой привычке еду на Одеон [112] . Пью кофе у стойки. Пристает русский: безработный, «офицер» и пр. (кислая отрыжка). «Вот дал бы, только не денег», – неожиданно вырывается у меня, и, странное дело, чувствую облегчение, удовлетворение: впервые за целый день полезной деятельности. Ничего не понимаю. Опустошенно бреду. Что сейчас предпринять… Хочется курить. Достаю папиросу; спичек нет; прикурить у незнакомого… Неловко (Европа). A tabac [113] далеко. Оглядываю прохожих, колеблюсь, гадаю; выбираю попроще: солдат с цыгаркою. Прошу огня, – хочет достать из кармана; «не надо, я от вашей», – проникновенно, братски заглядываю ему в глаза. Мы улыбаемся, как извечно знакомые, связанные уже навсегда. Кланяюсь, благоговейно козыряю; через минуту пропадаем во многих тенях. А на сердце – слышней и слышней – льется музыка. Бесплодно только давать, труднее учиться брать: просил ли ты уже милостыню… Вот так обратиться, получить ответ и доверчиво разойтись: уже породненные. Это счастье. Жадно раскуриваю папиросу, все острее и глубже проникаясь интимной близостью нашей встречи. «Хорошо, – думаю. – Неожиданно, проще простого. Именно что не спичка или холодная зажигалка, а огонь от огонька: лично, непосредственно. Так в России прикуривали, да и по сей день: в селах. Сколько христианской правды в такой бережливости». Вдоль решетки вечернего Люксембургского сада, затем «Четырех времен года» выхожу на бульвар Монпарнас. Впереди, на тротуаре, слоняется, шатается (по диагоналям) пьяная, растрепанная, оборванная и в то же время сохранившая еще некоторую женственность нищенка (подобная «матери» козы, Елизавете Смердящей), пьяный мужчина сохраняет еще некие потуги к добродетели, из сексуальных, хулиганских обручей он вырывается, неожиданно пропев гимн справедливости, братству, клянясь, что не преминет умереть за родину, за интернационал или за собутыльника. Хмельная женщина кощунственно трезва. Нищенка продвигалась зигзагами, то ускоряя, то совсем останавливаясь, споря с невидимым врагом, проклиная, шельмуя его, угрожая кулаками, часто указуя на свой поджарый зад: остервенело хватала его руками, выворачивала, вихляла, тыча им во все стороны, грязно чертыхаясь. Этот зад, видимо, играл в ее жизни крупную роль, лежал в самом центре навязанного мира, доставил много хлопот, целиком сгноил душу, и даже радости, выпавшие на долю, – тоже через него. То был основной аргумент в ее споре с Великим Судьей; потому что тяжбу она вела с Последним, совала испод, сучила им явно ввысь, к небу. Иногда, задрав голову, начинала кружить на одном месте, грозя кулачками окнам верхних этажей, освещенным большими люстрами, где по цветам добротных обоев скользили тени счастливых матерей и жен.
Я знал это чувство: проклятие, проклятие вам, окна с белыми занавесами, сколько раз я… (впрочем, не надо). Итак, бездомная останавливалась, грозила, терзала свой круп, выливала невразумительно-грязный, торжествующе хриплый поток проклятий и доводов вроде: «Вы хотели, так вот вам, а теперь, гады, не нравится». Из бокового переулка, несвоевременно, показались две хорошо одетые дамы. Нищенка ринулась к ним со вздетыми локтями, обсыпая такой возмущенной, смрадной руганью (касательно разных женских тайн), что дамы, шарахнувшись к стене, сразу замерли, перепуганные. Кстати я подвернулся: предложил услуги. Взяв одну под руку быстро повел. Нищенка обрушилась удвоенным роем претензий (о, о, о!), где обида переходила уже в наслаждение («Моего ты не хочешь? А, гадина?»). Но так как мы шли по прямой линии, то она скоро отстала: перебежала на другую сторону бульвара, сердито шаркая несуразной обувью. Там у стоянки машин она застряла, отважно споря с обидными тенями: доносились отрывки ее затравленной речи, под гогот скучающих таксистов. На уровне Bd Raspail [114] я счел должным (поскольку надобность миновала) откланяться, даже не успев толком их разглядеть. Лишь когда они прошли вперед, я обратил внимание на очень притягательный силуэт той, что помоложе, – и пожалел чего-то, заволновался. Купил спички в «Доме» [115] , раза два смерил шагами оба тротуара, потолкался у террас, проверил мускулатуру на спортивных автоматах и, почувствовав усталость, вошел в кафе (против вокзала). Еще в другом зале я ощутил на себе, отраженный зеркалами, дружелюбный (женский) взгляд, – потянуло туда. Только в непосредственной близости, по голосам, по сокровенно-вкрадчивому движению ресниц более молодой я узнал «тех» и обрадовался. Лукаво, заговорщицки поглядывая, они склонились к сидевшему рядом мужчине, быстро-быстро нашептывая; тот обернулся: речь шла обо мне. Принесли кофе и журналы. За столиками пары, группы. Безотчетно фиксирую: вот этому (пожар лица) нужен режим [116] ; женщина со знакомою, злой, раздраженной бледностью сухих щек – метрит, сальпенжит [117] . Слежу за «своими» дамами; молодая, судя по неуловимым мелочам, свободна (кавалер относится ко второй). Волнующе-грубо-чувственная, еще в расцвете, тугое, хорошо развернутое тело, и только очи: сухой, яркий блеск, угрюмо-аскетические и в чем-то блудливые (как у соблазненной монахини). Изредка она бросала какой-то растерянный – вниз и вбок, – словно пробуждающийся, недоуменный взгляд. «Больная, – мелькнуло в связи с этим несоответствием. – Я где-то встретил такое!» – силясь вспомнить, по данному впечатлению воспроизвести угасший образ. Наши глаза скрещивались лучами.
С минуту мы жестоко, убийственно приникали друг к другу, внедрялись. Я первый уступал, брался за кофе, пробовал читать иллюстрированные издания, объявления сексуальной индустрии: снадобья, пояса, книжки, альбомы, наконец спрос-предложения. Молодой человек с автомобилем, располагающий по субботам досугом, ищет компаньонку, по возможности блондинку, высокого роста, не старше двадцати шести. Блондинка (натуральная), элегантная, с твердой грудью ( poitrine ferme ), ищет серьезное знакомство на время каникул. Сержант колониальных войск проводит отпуск в столице, жаждет веселого, невзыскательного друга. Пробегая эти знакомые строки, я всем существом, однако, следил за своим vis-а-vis , постепенно проникаясь определенным сознанием: какая прелесть, до чего хорошо! Как это происходит: только что вел ее за руку, а был непроницаем, ослепленно-равнодушен, потом вдруг – ничего же не случилось! – человек изменился, совсем иное (негодуй, сожалей об упущенном). В ней что-то от реклам для дамских поясов, ну да. Как она смотрит (где я видел: вниз, вбок, – пробуждающийся). Ее знакомые сделали какое-то шутливое замечание, она громко рассмеялась, отвернулась, возражая, защищаясь, но через минуту: снова припали, уже сближенные, связанные этим вмешательством. Вдруг их кавалер, здоровый, перекормленный вивер [118] , поднялся и, бережно, подобно всем крупным тварям, передвигаясь, направился ко мне. Готовясь к неприятному объяснению, разгоряченный, пристыженный, я, однако, выпрямился (как шулер благородную внешность, так я, инстинктом, стараясь сразу подчеркнуть свой объем и вес). Тяжело улыбнувшись дородными, мясистыми щеками, он сказал: «Я должен вас поблагодарить. Мои дамы восторгаются вашей любезностью, особенно одна. Если вы ничего не имеете против, мы могли бы выпить чего-нибудь вместе». Меня усаживают рядом с молодой, заметно оробевшей и потупившейся. Вивер заказывает по кругу, еще и еще. Мы чокаемся церемонно, и Николь – так ее звали – ожидающе взглядывает, отпивая маленькими, хищными глотками густой, сладкий ликер, мелькает скользко-подвижный, острый, алый язык, от одного влажного поблескивания которого покрываешься испариною. Вивер пробует шуметь; рассказывает эпизоды из последней войны: когда пришло подкрепление, саперы откопали их в траншее… но все еще отстреливались, и если б надо было, держались бы вплоть до Страшного суда. Он предлагает тост за Марианну {51} , за ее белый хлеб, красное вино и хорошо сделанных женщин. Ничего не получается: мы молча пьем, одурманенные, тяжело переводя дыхание, словно раздавленные многотонным грузом похоти, выступившей из недр, полонившей нас и все окружение. Внезапно Вивер решительно стучит кулаком по столу (огромный перстень на мизинце): «Господа, а что если по домам…» – «Да, да, – соглашается его дама. – Это неплохо!» – и смеется. Николь оборачивается ко мне: откровенно-вопросительно и в то же время смущенно-торжествующе. Лепечу: «Если позволите, я вас провожу…» – «Надо полагать, что этот вопрос улажен!» – смеется вторая. Вивер изрыгает обрубки хохота и капли коньяка, попавшие ему в трахею. Николь, не отвечая, как-то сразу побледнев и осунувшись, оцепенело надевает перед зеркалом – шапочку, жакет, мех. У карусели дверей Вивер невзначай осведомляется: “ Qu’est ce que vous faites dans la vie? ” [119] Получив ответ, тискает мой локоть и восторженно шепчет: “ C’est une honnête fille! Oh, quel bonheur! ” [120] Мы поворачиваем на рю Вожирар [121] (в сторону Falguière [122] ). В липком чаду я держу, несу ее руку; с преступным и почти религиозным трепетом перемогаюсь, глотаю слюну. Они о чем-то договариваются, уславливаются, я понимаю, что: 1) Николь и вторая живут вместе, но последняя ночует сегодня у Вивера… и 2) завтра никак нельзя упустить что-то, проспать. На незнакомом перекрестке мы прощаемся. Вторая, сердечно улыбаясь мне, покровительственно жмет руку. «Детки, я бы многое дал, чтобы на вас поглядеть, – вопит Вивер, – хоть в замочную скважину». Уходят, обнявшись, захваченные гребнем обрушившейся на нас волны. Мы одни: грузные, неповоротливые, точно в насыщенном, горячем сиропе. Длинная, темная улица (за «Пастером» [123] ). Я касался ее ноги, бедра: рядом… воспринимая эту плоть как нечто страшное и священное.