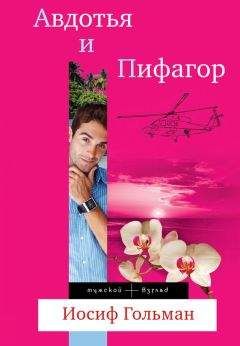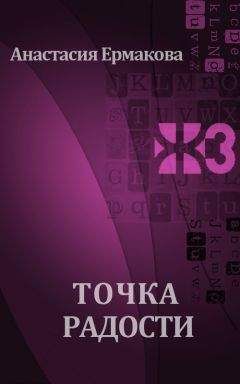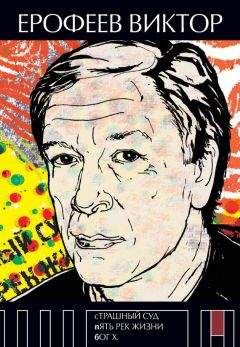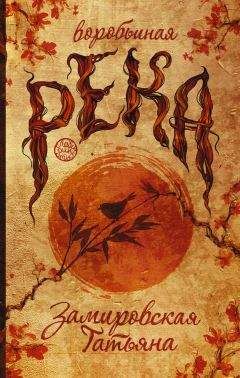Виктор Ерофеев - Акимуды
– Это что за явление? – гневно спросила она меня, когда Стелла подошла поздороваться с ней.
Дети с веселыми криками бегали друг за другом.
– Это чьи дети? – вдруг раздался знакомый голос.
Все обернулись. Этот вопрос уже не раз задавался отцом в последний год его жизни. Он не узнавал своих внуков и внучек. Их имена он ни разу не произнес вслух.
Мама торопливо встала и, перебирая двумя палочками, поспешила выйти из комнаты.
161.0<ПРИЗРАК МАТЕРИ>Мама! Мама! Куда делась мама? За какой угол, под какой стол ты спряталась? Почему тебя не видно?
Мама выхолащивается, растворяется в сумятице мыслей, получает смутное значение… Мама удаляется из разговоров, о ней почти не принято говорить. За редким исключением я ничего не знаю о матерях моих друзей и знакомых, как будто матерей никогда и не было, как будто мои друзья родились сами по себе. О матери вдруг сообщают, когда она заболела: «Надо навестить в больнице…» Тема отцов, братьев, сестер звучит отчетливее (они более реальны – их никогда не идеализировали до материнской степени), хотя тоже не ярко, и только дети, особенно маленькие, бегают на поверхности жизни.
Связан ли кризис материнства (вот немодное слово!) с тем, что у нас в культуре до недавнего времени господствовал ее восторженный образ? В матери все хорошо. Мать не трожь! О матери или хорошо, или ничего.
Мать поливали из лейки любви.
Так вырос призрак матери. Мать была по определению самой доброй, красивой, заботливой. Она неустанно беспокоилась о детях. Топ-модель самопожертвования, она не спала ночами, когда дети болели, от всего сердца радовалась их успехам, когда им удавалось нарисовать человечка или вылепить из пластилина собаку. Лучший друг сына и лучшая подруга дочери. А когда дети вырастали, она готова была стать декабристкой, защищая их протестные взгляды. Наша литература постаралась. Мать стала сакральным образом. Да и зачем ей быть другой? Эта роль делала жизнь стабильнее и проще.
Разложение матери началось, когда на смену архаическому культу родителей, их безусловному почитанию пришел принцип свободного суждения, отвергающего табу. В России этот переворот запоздал. Он еще продолжается. У нас он совпал с моральной дезинтеграцией общества. Мать стала гнить с двух сторон. Но как говорил когда-то Сперанский, «на погосте всех не оплачешь»!
Мать оказалась вовсе не идеальной. Она не справилась с российскими условиями жизни, она устала. Запила, очерствела, сбилась с пути, загуляла или, как отстают от поезда, отстала от интернета. Не набралась ни житейской мудрости, ни здравого ума. Среди матерей возникли целые стаи одичавших женщин, желающих выжить. Дети стали обузой. На детях матери срывают свое дурное женское настроение, неудачи, морщины, общую непривлекательность.
Дети не научились быть благодарными, толерантными существами. Они разменяли любовь на досаду. Взаимные подозрения, недовольство друг другом, зависть и ревность, злоба, агрессия, ненависть – норма жизни. Дети увидели, что их мать некрасива, что тетка лучше матери – умнее и чистоплотнее. Лопнул образ матери как самой доброй женщины в мире. У детей поехала крыша. Вырастая, они стали стесняться своих матерей, прятать их за семейными стенами, не выводить в общество, не показывать людям. Дети выросли недолюбленными и, вспоминая нагоняи и подзатыльники, в той или иной степени отказались от своих матерей.
Сыновья женятся, обзаводятся детьми и понимают на новом витке жизни, что их жены тоже могут быть дурными, черствыми, эгоистическими матерями, которые отдают детей, если есть деньги, нянькам на воспитание, а если нет – сиди в детском саду до ночи! Бедной женщине не хватает сил быть хорошей матерью? Скорее, желания! Зачем нянчиться, если молодой мамке хочется расслабиться?
Газеты пишут об экстремальных случаях избавления матерей от детей, очерняя в целом российскую мать. Российская мать воет на луну. Гадкие случаи врезаются в мозг: мы все равно до сих пор на генетическом уровне верим в другую, самую светлую и неделимую, самую цельную на свете мать, о чем нам настойчиво напоминает наша культура. Положение – патовое: нам велено держаться за идеальный образ материнства, иначе будет еще хуже. Но наложение реальной матери на идеальную невыносимо.
Любовь к маме бьется об лед.
162.0<АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ НАБОКОВА>Беда наших демократов в том, что они искренне верят в народные массы. Беда наших мракобесов в обратном: они превращают народные массы в массу кала. Мертвая война многому научила меня. Но, несмотря на то что в стране победивших мертвяков все летело к чертям, я еще пробовал не унывать и отшутиться. Меня вновь, как и в молодости, вдруг потянуло к Набокову. На общем собрании литературных гениев он мне не понравился. Надменная мегаломания! Я ощущал ее и раньше, в его книгах, например в когда-то воспетом мною романе «Приглашение на казнь», произведении довольно картонном. Однако я не зря осуществил набоковизацию всей страны. Я ценил в Набокове его эстетическое положение над схваткой. Ненависть к большевикам обернулась в нем любовью к бабочкам.
– Сведи меня с Набоковым!
– А тебе это нужно? – спросил Акимуд.
– Я тоже хочу поймать своих бабочек.
– Своих бабонек, – по-набоковски скаламбурил Акимуд.
– Вот послушай меня!
Как следствие трагической истории, мы настолько укоренены в эстетике безобразного, что каждый из нас похож на воздушный шар, надутый ядовитым газом. Ветер раскачивает наши шары. Соприкоснувшись, они трутся друг о друга с визгливым скрипом, знакомым с колыбели. Нам не дано видеть неоднозначность явлений: мы созданы либо для проклятий, либо для восхвалений. Но и это задание мы выполняем кое-как; восторги ненависти и любви сменяются пожизненным равнодушием, нас душит жаба выживания, мы умираем раньше смерти. Когда нам в руки попадаются изделия культуры, сотканные из других переживаний, из острых прозрений, мы выглядим смешно и глупо – нам не хватает ни слов, ни воображения их бескорыстно обозначить. Мы стремимся либо их присвоить себе путем нетерпеливого одомашнивания, либо затаиться в зависти и отчуждении. Соответствия мира для нас идут лесом.
Я не читаю за рулем из чувства сострадания к пешеходам, но тут невольно зачитался – менты погнались за мной, и, видно, долго гнались, остановили уже на Новой Риге. Подходят вежливые, но с «калашом». Вопросы посыпались. Что за машина такая? И что за книга?
Машина, говорю, называется GT, взял на тест-драйв у Кристиана Кремера – у него в Химках бюро – покататься, не хочется отдавать, они уже просят отдать, а я тяну: приглянулась! Книга, отвечаю, Набокова. Новая. Ну, мало ли что он умер, а книга новая, недописанная – вот читаю и радуюсь за него. Чем автомобиль приглянулся? Тем же, чем и роман, – свободой своей, говорю, без ключа. Нажал на кнопку и едешь – как будто блаженствуешь в ванне с пеной, как будто мир иной, не наша дорога, забрызганная грязью, а совсем другой сюжет. Роман – автомобиль – шедевр! Это настораживает недоверчивых ментов. Но меня радует, что Набоков, оставаясь верным себе, не ищет проторенных дорог, обыгрывает сам себя и побеждает. Я от него это ждал, и он это сделал. Канва фривольна, жена распутна, но красота ее стегн (набоковское словечко!), похождений, ее бутона характера равняет распутность с чувством слова. Набоков не доделал свой GT – умер. Культура закрутилась колесом: низ и верх опасным образом соединились: не видно различия между панорамным видом из GT с его трехмерным навигатором (едешь – читаешь Набокова без риска для окружающих) и композициями литературного свойства. Нравится – не нравится, но таково время, и главное – не бояться.
Но напоследок я предупредил ментов: будьте бдительны. Не переедайте. Смотрите, что пишет Набоков: «Ненавижу свое брюхо, этот набитый кишками сундук, который я принужден таскать за собой повсюду вместе со всеми его спутниками: неудобоваримой пищей, изжогой, свинцовой залежью запоров, а то еще расстройством и первой порцией горячей гадости, извергающейся из меня в публичном сортире за три минуты до назначенной встречи».
Менты – хором: круто!
Набоков и сегодня бы жил в шестьдесят четвертом номере своей гостиницы в Монтрё, если бы не страсть к бабочкам. Ведь он в Давосе – знаете Давос? – помчался не за перспективами мирового рынка, а как всегда прочь от всех: от толстых зрелых женщин к Лолите, от людей – к бабочкам. И – сорвался, летел с горы кубарем, застрял в нелепой позе с сачком в кустах.
Слышу: зовет на помощь.
Смотрю: туристы, медленно плывущие на фуникулере над ним, думают, что это – клоун. И – хохочут. Среди туристов замечены Маркс, Ленин, Фрейд – все его лютые враги.
Не будьте клоунами, менты! Не подавитесь деньгами! Ловите бабочек и не ревнуйте своих распутных жен – не поможет. А что касается GT, то – я оглянулся и вздрогнул: он сидит, притаившись, на заднем сиденье… с сачком… в белых, испачканных альпийской травой шортах… м-да – это автомобиль для Набокова.