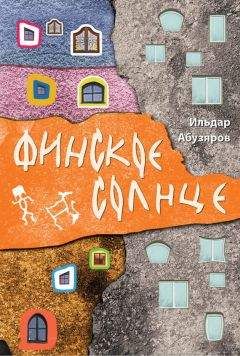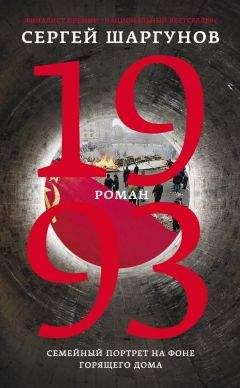Алексей Никитин - Victory Park
Да, закончен, но не забыт. Сколь бы плотно ни смыкала края реальность, прошедшее лето в его памяти будет тихо переливаться цветами херсонесского заката, оно сохранит вкус полынной горечи и быстрое тепло дыхания Сиринги, но время этих воспоминаний придет позже, годы спустя.
Пеликан, между тем, озадаченно покружил по безжизненно-пустой кухне, похлопал дверцами шкафчиков, заполненных несъедобным хламом, и включил холодильник. Полезное устройство тут же трудолюбиво затарахтело, но на его полках от этого ничего не появилось. Родители ожидались из Чернигова через две недели. Сунув в карман пятерку, Пеликан побрел в соседний магазин.
Он рассчитывал вернуться домой минут через десять, но силовые линии на Комсомольском массиве в тот вечер расположились так, что полчаса спустя, кое-как удерживая в левой руке две бутылки «Агдама», Пеликан звонил в дверь квартиры на улице Малышко. Трое бывших одноклассников Пеликана терпеливо ждали вместе с ним, когда же с противоположной стороны двери услышат звонок и наконец впустят.
Позади, как раз у него за спиной, облокотившись на перила и поставив между ног сумку еще с семью бутылками портвейна, стоял, привычно спрятав голову в плечи, Вадик Снежко, звезда баскетбола и чемпион Украины среди юниоров. С Вадиком Пеликан когда-то играл в одной команде. Хорошо порывшись в семейных архивах, они могли бы откопать пару одинаковых грамот, сообщавших об их победах в каких-то полудетских всесоюзных турнирах – Брест, Горький, Куйбышев. Пеликан только потому и пришел под дверь этой квартиры, что встретил Вадика. Без старого приятеля ему здесь делать было нечего, да и с ним Пеликан собирался зайти всего минут на двадцать – посмотреть на знакомые морды, а потом незаметно сбежать.
Рядом со Снежко на лестничной площадке присел Толик Гастроном, а в стороне, на ступеньках, торопливо добивал смрадную «Ватру» Леня Хвостиевский. О Толике Пеликан последние четыре года не слышал ничего, не вспоминал о нем ни разу, и если бы сейчас не встретил его с Вадиком, то мутный образ Гастронома и дальше тихо растворялся бы в темных глубинах памяти, так что когда-нибудь, возможно скоро, развеялся совсем. А вот о Лене года два назад ему напомнили.
В десятом классе, уже заканчивая учебу, между первыми майскими праздниками и вторыми, ранним утром Леня через окно выбрался на козырек над входом в школу и оттуда приветствовал учеников и учителей вскинутой правой рукой, прямой, как меч легионера. На Лене были сапоги, офицерская полевая форма, перекрашенная в черный цвет, фуражка, тоже черная, с орлом вместо общевойсковой кокарды, и старый кожаный плащ. Чтобы все было ясно без слов, на рукав плаща Леня натянул красную повязку со свастикой, а на верхнюю губу наклеил квадратный кусок марли бурого цвета – издали было похоже на усы.
Зачем Леня все это проделал, никто толком не понял. Его быстро сняли с козырька и отправили на полгода в больницу. Осенью он вышел, но аттестата о среднем образовании уже никогда не получил, и теперь то появлялся на Комсомольском массиве, то куда-то надолго исчезал.
За дверью отмечали конец лета. Не то конец лета, не то начало осени, Вадик путался в показаниях, но твердо обещал, что там собрались все наши. Пеликан рад был видеть Вадика, но спросил себя: готов ли он встречать начало осени, если остальные наши такие же, как Толик и Леня? К тому же, на их долгие звонки никто не отзывался, и это давало ему шанс немедленно смотаться из-под глухой, звуконепробиваемой двери. Но наконец очередная тонкая призывная трель точно прошла между двумя горами тяжелого металла, валившегося из колонок, и на этот раз их услышали.
Дверь открыл радостно улыбавшийся, уже крепко вмазанный тип. Не желая ничего понимать, он встал в проеме и жизнерадостно таращился на пришедших. За спиной у Пеликана зашевелился Вадик Снежко, не узнать которого было непросто, однако бухому парню это отлично удавалось. Немая сцена длилась недолго, может быть, несколько секунд, но выглядела невозможно глупо. Надо было как-то объясняться, никто не понимал, как именно и что следует говорить, но тут из глубины коридора, из-за спины хозяина квартиры, если, конечно, он был хозяином, с яростным криком Пеликан! вылетела Ирка. Она оттолкнула топтавшегося в дверях парня и прыгнула на Пеликана с такой силой, что если бы не Вадик, стоявший за спиной, Пеликан точно не удержался бы на ногах. Все втроем они кое-как устояли.
– Пеликан, ты откуда? Куда ты пропал?!
– Прилетел всего час назад. Еще утром был в Симферополе.
– И я вчера вернулась, – Ирка замерла, прижавшись к Пеликану и не желая его отпускать.
Толик, Леня, а следом за ними Вадик с портвейном скрылись в квартире, деликатно прикрыв за собой дверь.
– Ты не представляешь, как я соскучилась!
– Представляю, – ответил Пеликан. – Я все время думал о тебе.
То, что он сказал, было чистой, ничем не замутненной правдой. Створки времени сомкнулись окончательно, и кроме Ирки рядом с ним не оставалось никого.
2
Вторая повестка пришла в конце сентября. Это была странная бумага, предписывавшая Пеликану явиться в военкомат, чтобы лично получить следующую, третью и на этот раз окончательную, повестку на расчет.
– Какая еще армия? – не поверила Ирка. – Это что, серьезно?
– Армия – советская, скорее всего, – предположил догадливый Пеликан. – Вряд ли, греческие или, например, итальянские вооруженные силы стали бы так настойчиво заманивать меня в свои ряды.
– Дурацкие у тебя шутки, Пеликан.
– Это сарказм. Или ирония. Говорят, между сарказмом и иронией есть граница, но я ее плохо чувствую и, как правило, перепрыгиваю, не заметив. Иногда начнешь тонко иронизировать, а собеседника трясет, как от самого беспощадного сарказма…
– Да какая разница, сарказм или ирония? – с тоской посмотрела на него Ирка. – Что же теперь делать?
– Сегодня нужно отнести Калашу дюар с азотом. Пойдешь со мной?
– Пойду, конечно!
– Вот этим и займемся, а с остальным уж как получится. Ну что мы можем сделать с нашей страной и ее умонепостигаемыми порядками? Только не замечать их, пока это хоть как-то возможно…
Лето продолжалось для них весь сентябрь. Ирка редко появлялась в своем училище, Пеликана в университете тоже почти не видели. Днем они валялись на мягком песке Труханова острова, а чаще ездили на небольшом катерке вниз по Днепру – за дачи Осокорков, за Вишняки, в какие-то совсем малообитаемые, почти безлюдные места. Там лес подступал к самому берегу, оставляя только узкую полоску чистого пляжа. Рядом с небольшой пристанью ободранными днищами кверху валялись прогулочные лодки, и тяжелые коты спали на них в тишине и безопасности. Вдали от берега среди сосен прятались небольшие деревянные коттеджи – опустевшие базы отдыха киевских заводов. Между ними изредка пробегали встревоженные собаки. С началом сентября они разом лишились и еды, и городских друзей.
Все эти дни Ирка была рядом, но Пеликан никак не мог привыкнуть к легким скользящим движениям ее рук, быстрым прикосновениям губ, внимательному, иногда слишком пристальному взгляду. Он хотел, чтобы так оставалось всегда, чтобы ничего не менялось, но их время таяло, и вода днепровских заводей незаметно смывала его – каплю за каплей, день за днем.
Они возвращались в город на том же катерке, сидели на открытой корме, чтобы видеть оба берега Днепра. Пеликан стряхивал песчинки с Иркиной шеи, с ее тонких ключиц, тихо светившихся в лучах предзакатного солнца желтоватым морским загаром. Ирка молчала, устроившись у него на руках, изредка поднимала глаза на Пеликана, и он точно знал, что навсегда запомнит и этот ее взгляд, и маленький пассажирский катер, рвущийся вверх по течению к Речному вокзалу, и небо необычно теплого сентября, стремительно темнеющее на востоке.
Он действительно запомнил все, и позже, вспоминая те дни, Пеликан понял, что именно тогда на самом дне ее серых глаз впервые проступила глухая тень, темная и густая, непроницаемая не только для него и света заходящего солнца, но и для самой Ирки. И хотя она не думала и, наверное, даже не знала о ней еще ничего, тень лежала пеленой, не исчезала и со временем делалась только мрачнее и гуще.
Вечера Пеликан и Ирка проводили в парке. К середине сентября все уже вернулись после отпусков и каникул, отыскались и появились даже те, кого не видели здесь несколько месяцев. В прежние годы именно сентябрьские вечера в парке «Победа» были самыми отвязными – берегов не видел никто. До холодных осенних дождей оставалась одна, хорошо если две недели, и парковые не желали упускать последние теплые дни. До глубокой ночи грохотали колонки Гоцика у автодрома, вспыхивало, мерцало разноцветными огнями колесо обозрения Сереги Белкина, и дежурная бригада ментов, терпеливо курившая у «Братиславы», каждый вечер увозила в обезьянник героев очередной эпической драки.