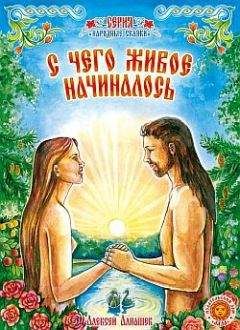Ада Самарка - Мильфьори, или Популярные сказки, адаптированные для современного взрослого чтения
Мурашин тоже видел фото и стал караулить Зинку под стенами интерната. Ему было накладно ездить через весь город, потому встречи носили нерегулярный характер. Мурашин не знал, о чем с ней говорить, и просто плелся следом, а Зинка раздражалась. Как-то в гостях у Зинки Мурашин попросил посмотреть фото еще раз.
«Я тебе нравлюсь?» – спросила Зинка.
«Да, очень», – ответил Мурашин и думал, что нужно бы сейчас поцеловать ее, но не знал как. Настольная лампа очертила золотистый круг на исцарапанной лакированной поверхности письменного стола, награды и флажки на стене уходили в полумрак вместе с прыгающим на плакате негром в синем трико, с книжной полки вился плющ, бросая острые тени на обои, за окном серел пасмурный вечер, и через форточку сочилась прохлада с запахом мокрого тополя.
Потом Зинка уехала на сборы, а оттуда – за границу, на те самые важные соревнования, а потом наступило лето, и Зинка провела почти три месяца в спортивном лагере, откуда тоже ездила на разные соревнования. Мурашин написал ей письмо – где говорил о своих чувствах, делился планами. Зинка ничего не ответила, и можно было предположить, что письмо потерялось – она ни разу потом не упоминала о нем, а Мурашин не спрашивал больше.
Зинка читала письмо в автобусе, по дороге в Болгарию. «Я люблю тебя, милая Зиночка», – писал Мурашин. А Зинке было уютно и немного забавно. За окном виды становились все более южными, колени и низ поясницы чесались от скопившейся там энергии и желания попрыгать. Мурашин писал аккуратно, женским почерком.
Сразу после школы Мурашин удивил всех похлеще Зинки с ее рекордами и поездками – он женился. Громче всех смеялась Зинка, и в ее смехе не читалось ни капли ревности. Мурашин никогда не рассматривался ею в качестве кавалера, и вообще не воспринимался как мужчина – а тут такое!
«Ты что, дурак, – пьяно прильнув к нему, шептала Зинка, – Мурашин… ну что ты творишь, чучело ты… жизни же не видел, ничего не видел, за душой нет ничего, образования нет («Я поступил в КПИ», – пытался возразить Мурашин), ни черта вообще нет у тебя, и тут жениться, а вот что – вот так просто нельзя было?» И потом вспомнила, что в том письме он и ей предлагал жениться. «Вот смешной… вы же разведетесь к третьему курсу. Лишь бы детей не наделали к тому времени. И главное, нашел куда поступать, на куда ты поступил, как оно называется?»
«Сварочный…»
«Вот. Сварочный. Будешь, Мурашин, сварочником с высшим образованием… Боже… боже… что же ты творишь?..»
Зинка после школы ушла в спорт, имела все необходимые звания и записи в соотвествующей книжечке. В 19 лет она поехала в составе сборной в Пекин на Олимпиаду и там стала звездой.
Мурашин сидел перед телевизором, номинально цветным, но показывающим все в зеленых тонах, и, замерев над картошкой, которую чистил, с внимательной грустью смотрел на бегущую с легкостью льющейся музыки, прекрасную даже в полосатом изумруде поломанного кинескопа Зинку, – мимо восторженно воющей толпы на трибунах, мимо застывших поднятых рук, самодельных транспарантов с кривыми сердечками. За спиной у Мурашина тяжело ходила его жена – с грудным сыном на руках. Мальчик родился с травмой, роды вообще были очень тяжелыми, и малыш не мог спать в кроватке – только на руках и когда носят. У жены тоже была травма и куча швов, из-за которых она не могла сидеть – так и шутили они что-то про встречу потребностей с возможностями.
Так вышло, что денег Мурашин не зарабатывал вообще, и все жили на пенсию бабушки – которой ночами (и теперь все чаще и днями тоже) снилась война. Сорок пять лет после и тридцать до стремительно сужались в ее сознании, превращаясь в ленту Мебиуса, по которой, скользя и натыкаясь друг на друга, тянулись ее дни, и каждая секунда тех сорока пяти лет после отстукивала свинцовым грохотом, равно как и бессмысленные предыдущие тридцать. Они жили все в одной тридцатиметровой комнате, вместе с мамой, у которой обострилась давняя хроническая болезнь и мучали боли, и с двумя безумными собаками, слава богу, что маленькими, похожими на черных белок без хвостов – мама обожала их. А малыш болел весь первый год, зато начал рано говорить, и первым его словом было «хвостик».
В Пекине Зинка познакомилась с Владиславом. Такого человека, в то время, в таком пиджаке, в таких белых носках, в таких туфлях из крокодиловой кожи, могли звать только Владиславом. Советские стражи и блюстители рассудили, что лучше Зинка пусть общается со своим, со всех сторон завербованным, хотя и неблагонадежным – чем с нарисовавшимися на горизонте наглым итальянцем отборных сицилийских кровей и американским евреем, вредным во всех аспектах.
Владислав, несмотря на свой пробивающий стены шарм, умел красиво ухаживать. Зинка влюбилась в него с первого взгляда на какой-то приватной вечеринке. Если Эдик был чем-то вроде Зинкиной первой любви, то Владислав стал уже ее настоящим первым мужчиной, пусть не в сексуальном плане первым – но именно тем, кого можно с гордостью и особым мурлыканьем, переходящим в тихий рык, называть «Мой Мужчина». До судьбоносных начальных девяностых Зинка каталась вместе с ним по Советскому Союзу, наслаждалась безлюдной советской Ялтой с неработающим луна-парком и пасмурной набережной, блистала голым плечом в люрексе на вечеринках, терпеливо сидела в холлах и вестибюлях, поглядывая на происходящие в двадцати метрах важные встречи, на которых решалась судьба миллионов, жила нехитрыми гостиничными буднями – гладила Владиславу рубашки, собирала бутерброды в дорогу, массировала ему больную поясницу и лечила грипп – больная сама, в незнакомом северном городе, в туфлях бегала в поисках дежурной аптеки и потом низким, бабским голосом орала на швейцара, отказывающегося пускать ее после двадцати трех. За Владислава Зинка не раздумывая села бы в тюрьму или отдала бы, например, почку.
Раз в несколько месяцев Зинка забегала в микрорайон общаг и хрущевок за радиорынком, в холодную и темную, расположенную на первом этаже (и потому без балкона) квартиру бабушки Мурашина (где поселилась молодая семья) и, стесняясь и брезгуя переступать порог, вручала там, в темном, пропахшем кошками и куревом коридоре, свои шикарные и неуместные гостинцы – вечно, когда выбирала, то казалось, что достойный подарок, как для того Мурашина, который в черной водолазке пил с ней «кока-колу» на трамплине над стадионом, а на деле становилось ясно, что порадовать его может совсем иное. «Бутылку обменяешь на что-то или дашь врачу», – объясняла Зинка, с тоской глядя на непримечательную серую этикетку на испанской мадере. Вино непопулярное, неизвестное, даримое исключительно для ценителя или близкого человека – ах, как же хотелось Зинке, чтобы Мурашин с женой сели где-то в тихом скверике, как в Одессе, чтобы вокруг было все в послезакатном сумеречном сиянии, пахло морем и издалека доносилась бы музыка, и выпили бы вдвоем это прекрасное вино, забыв хотя бы на час обо всех своих горестях и заботах. Или изумительные шелковые чулки и кружевные комбинации – Зинка честно хотела сделать личный и дорогой подарок, ей казалось, что она прямо дарит им любовь, которая в этих чулках и кружевах хоть на ночь победит рутину, болезнь малыша и вылечит бабушкины ночные кошмары. Или галстук «Грегори Бакстор» – достойный выбор респектабельных, но был ли он на самом деле лучше того, единственного, чехословацкого, оставшегося после выпускного вечера галстука, который Мурашин все равно почти не носил?..
Сгодились тонкие и очень теплые свитера из английской шерсти – хоть и протирались на локтях, но жена их искусно штопала, и как-то, превозмогая неловкость, попросили привезти еще, если получится. Из одного протершегося умудрились соорудить костюмчик для малыша. Просили обувь, лекарства, вообще что угодно, даже продукты.
Мурашин днем учился, а по ночам работал сторожем, жена почти не видела его.
«Ну и что это за жизнь, а? И твоя, и у нее – вот что за жизнь, вот зачем так было?» – шептала Зинка, выдувая ментоловый дым. Мурашин стоял, нагруженный ее подарками, и, как всегда, молчал. «Я просто не верю, что мы с тобой когда-то на одном уровне были – ты мог бы такую карьеру сделать. Знаешь, жизнь такая короткая, и это исключительно наш собственный выбор, чем ее наполнять». В такие моменты в ней говорил Владислав, Зинкин голос становился мечтательным, глаза устремлялись к потолку: «Я выбрала жизнь, Мурашин, а ты выбрал черт-те что».
Мурашин тогда хотел возразить, что пухленькая детская ручка его сына, сжимающая перильца на кроватке, когда он спит – и есть самая настоящая жизнь, жизнь в самом своем жизненном проявлении, но, не найдя слов, просто махнул рукой и спросил: «Пачку оставишь?» Непривычно длинные, коричневые «More» можно было отдать знакомой продавщице из важного для молодой семьи отдела промтоваров в универмаге через дорогу.
В девяносто первом году грянул гром. Хотя у Владислава имелась жена и какие-то дети, Зинка не без оснований считала его Своим Мужчиной и где-то даже расслабилась. Женитьба и дальнейшие перспективы рисовались совершенно естественным будущим, тихо спеющим где-то неподалеку, куда совсем нет смысла торопиться. После бутербродов в дороге, поглаженных в гостинице рубашек и вылеченного гриппа, казалось, их уже ничто не разлучит. Но тучи сгустились еще до августа и Фороса, и Владислав спешно засобирался в Америку. Появилась вдруг его жена, на чьих родителей отписали квартиру в Москве, где Зинка пару раз курила голой на балконе и прикидывала, как можно было бы переставить мебель и вообще облагородить интерьер с огромными пыльными окнами на солнечную сторону.