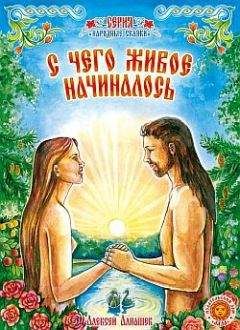Ада Самарка - Мильфьори, или Популярные сказки, адаптированные для современного взрослого чтения
Эдик оказался непривычно (для врача) загоревшим и обветренным, смотрел на нее холодными, чуть прищуренными глазами, неестественно светлыми, какого-то неопределенного зеленоватого оттенка («Такого цвета вода в Ниле, где крокодилы водятся», – весело подумала Зинка), но руки его были теплыми, почти горячими, движения, в отличие от бабы Любы, – мягкими, беспрестанно пробующими, и сама кожа на руках – гладкой, нежной, почти атласной. Еще Зинка подумала, что его ладони значительно светлее остальной кожи, и это показалось ей отчего-то жутко неприличным. Как и то, что подобного рода мысли – о коже, тепле и руках поднялись и вспыхнули при виде немолодого (лет под сорок) мужчины, к тому же с залысинами.
«Ты очень зажата здесь», – спокойно сказал Эдик, скользнув рукой вверх по икре, чуть сжав под коленкой – и рука его была живой, горячей, под подушечками пальцев (и это словосочетание тоже показалось Зинке тогда будоражаще непристойным) чувствовалась вибрация, словно весь он был налит какой-то особенной энергией. Казалось странным, что такая энергия может исходить от лысоватого мужчины.
Несколько ночей Зинка спала плохо – ворочалась, задыхалась, стопы и икры наливались жаром, глаза резало от усталости, а все тело ныло, требуя нагрузки.
Начинался первый июньский зной. Старый каштан дышал в комнату, прямо в Зинкину постель, невнятными ночными запахами сырой листвы и влажного цветения. Разметавшись в полутьме, скинув одеяла, спали ее соседки по комнате, и это тоже показалось Зинке вдруг каким-то будоражаще неприличным – их тела в перекрутившихся, местами задравшихся ночных рубашках, ритмичное, тихое, но наполняющее собой всю комнату дыхание.
Притворившись, что с ногой дела совсем плохи, Зинка добилась еще одного визита к доктору Эдику.
«Давай договоримся так – я буду сейчас что-то делать, и как только ты почувствуешь, что тебе это не нравится, вызывает дискомфорт, то тут же говоришь мне об этом, и я прекращаю», – он посмотрел на Зинку сверху вниз и впервые в ее жизни все чувства странным образом сконцентрировались глубоко под кожей, все внимание свернулось, углубляясь внутрь собственного тела, и Эдик, казалось, находится не рядом, а на другом конце комнаты. Одна его рука, еще в самом начале, легла ей на живот, упираясь в лобковую кость. Второй он мял, достаточно жестко, вниз от колена до больной щиколотки, но именно ту, вторую, грубую руку, Зинка почти не чувствовала.
«Вставай и одевайся», – сказал Эдик спустя минут примерно тридцать, когда реальность, словно собиравшаяся в большой брезентовый плащ все это время (его прохладная, водянисто-тугая, готовая вот-вот лопнуть, выгнутая полушарием поверхность словно упиралась ей в нос, давила на лицо) наконец выплеснулась, выбивая дыхание, заливая глаза и носоглотку, булькая белым шумом в ушах. С трудом ориентируясь в пространстве, Зинка села на кушетке, глядя на тот же устойчивый, трапециеобразный, похожий на пенек, силуэт, расфокусированный в больничном белом мареве, который теперь неторопливо и тщательно мыл руки над умывальником в углу комнаты, у ширмы. Огляделась в поисках одежды – трусики лежали на стуле, по которому, как по ступеньке, она забиралась на массажную кушетку.
Эдик не стал ее первым мужчиной, но привел в мир йоги.
В те годы йога в СССР была полулегальной, но увлеченные практики, в том числе и Эдик, нашли учеников среди обитателей больших серых домов на улицах Энгельса, Богомольца и прочих, близких к министерским ковровым дорожкам. Занятия проводились сугубо для своих, для проверенного круга единомышленников, и попасть в какой-то заветный секретный подвал или запираемую изнутри на ключ институтскую аудиторию постороннему человеку было невозможно. Зинку привел лично Эдик. Он как раз немного отошел от классической практики последователей Айенгара и, объединившись с женским доктором с армянской фамилией – то ли Варданян, то ли Вардовян, открыл в некотором роде курсы, выпускницы которых, осознав и наделив вниманием все свои каналы, меридианы и чакры, а также приведя в порядок тело («и душу!» – как говорилось в зазывающей брошюре), становились «совсем другими людьми» (что озвучивалось уже в приватных беседах). Суть методики – и тут присутствие врача считалось крайне необходимым – заключалась в развитии в женщинах того самого главного и женского (чем именно оно было, в отличие от того, где его искать – йоги четко сформулировать не могли).
Зинкины отлучки документировались как занятия ЛФК у реабилитолога. Два раза в неделю она выбегала из общежития, со своей здоровенной сумкой на плече, с мокрыми, собранными в кривую «дульку» волосами, и мчалась на метро «Пионерская» – тогда тихую конечную станцию с небольшим базарчиком, парой киосков, автоматом с газировкой и запахом хвойного леса, таким обволакивающим и успокаивающим с утра. Занятия проходили в художественной мастерской, расположенной в вечно затапливаемом подвале на улице Энгельса (теперь Лютеранской). Проход был каким-то хитрым – сперва через одну дверь, такую низкую, что приходилось сильно наклоняться, потом через две других. Девушки и женщины были совершенно разные, но красивые. Чуть осмелев, Эдик, склонный к тщеславию, начинал потихоньку рекламировать свое детище и уточнял, что «к нам на танцы ходят только красивые женщины – со шрамами от аппендицита или кесаревого сечения мы не берем». Это все дело постепенно оформилось как танцы, про йогу говорили только в контексте дыхания «по центральной оси тела».
Женский доктор и Эдик (когда было время) садились на низкий дерматиновый диванчик под серую, в потеках, стену с криво налепленными афишами художественных выставок, включали серебристый кассетник «Шарп», на который почему-то рассчитывали в качестве выпускной стипендии, замечтавшись в танце, почти все ученицы. После легкой разминки девушки и женщины раздевались и начинали танцевать, а тренеры, закинув нога на ногу, что-то им советовать. Тогда же пришел термин «медитация в танце». Зинке казалось, что эти медитации ей лично очень нужны – каким-то образом потом и бегалось быстрее, и прыгалось выше. Когда она, дыша всеми своими откупоренными чакрами, всей поверхностью кожи и до приятной судороги подтягивая тазовое дно, возвращалась с занятия, то ощущала счастье и наполненность жизни. Зинка пыталась рассказывать об этих практиках своим соседкам по комнате, но встречала лишь агрессивное недоумение.
Эдик и женский доктор устраивали также и индивидуальный прием учениц, и однажды, по звонку откуда-то из министерских коридоров, Зинку вдруг вызвали куда надо, и в студии женской медитации в танце состоялся ее бенефис. Единственным зрителем, кроме Эдика и женского доктора, оказался пожилой, весьма обрюзгший человек с еврейской фамилией, с прозвищем Нос и с невероятно живым, колючим, молодым взглядом. И пальцы его рук были нежными, холеными (Зинка почему-то всегда обращала внимание на руки у мужчин), с детской атласно-перламутровой упругостью подушечек.
Зинка села рядом, на проваленный дерматиновый диванчик, вызывающе не стесняясь своей наготы, и, коротко глянув на Эдика, взяла со столика стакан уважаемого господина и сделала пару глотков, поморщилась, улыбнулась, вытерла губы тыльной стороной запястья и внимательно посмотрела Носу прямо в глаза.
Примерно в тот период (какая-то мрачная, слякотная, в бесконечных потопах стояла весна) появились фотоснимки с непривычной желтовато-глянцевой печатью, где-то, говорят в Нидерландах проявили пленку и сделали сколько-то оттисков на профессиональном «кодаковском» оборудовании и потом в дипломатическом багаже привезли обратно в Киев – голая, прекрасная, как рассвет Зинка, с подведенными черной тушью глазами и волосами, собранными по-балетному в высокую «дульку» на затылке (и выбившимися нежными прядями над виском), и Нос с огромным – как с картин Брейгеля – животом, только обнаженным, в редких, равномерно распространившихся по всей поверхности черных кудрях, голый, с пухлыми нежными руками на Зинкиных гладких, словно из мрамора выточенных выпуклостях и впадинках. На одном снимке Зинка стояла на коленях, прогнувшись в спине, огромный живот занимал весь задний план, расфокусированные расставленные колени (кажется, тоже в завитках) были на переднем. «Фу ты, черт возьми…» – сказала Зинка, увидев снимок, и брезгливо-испуганно отложила глянцевую, чуть изогнувшуюся от свежести оттисков пачку. Фотография осталась у нее только одна – вроде и без одежды и, главное, без Носа – но так, что левая нога, согнутая в колене и прижатая к груди, и правая, тоже согнутая в колене, и лежащая на полу, закрывали все интересные места и делали снимок вполне приличным. Зинка даже маме показала, соврав, что приезжал какой-то зарубежный фотограф и что на разлагющемся Западе такое в порядке вещей.
Мурашин тоже видел фото и стал караулить Зинку под стенами интерната. Ему было накладно ездить через весь город, потому встречи носили нерегулярный характер. Мурашин не знал, о чем с ней говорить, и просто плелся следом, а Зинка раздражалась. Как-то в гостях у Зинки Мурашин попросил посмотреть фото еще раз.