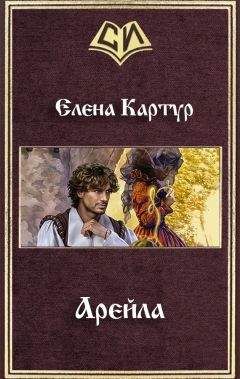Майя Белобров-Попов - Русские дети (сборник)
И не спасёт от заговорщиков ни одного ребёнка.
Ни одного!
Он вышел из школы в полной темноте, охранник посмотрел с интересом – видимо, все уже знали, что это последний рабочий день историка.
Пустая парковка, днём забитая дорогими машинами, тишина в школьном дворе, под фонарём – каток, царство Махалыча.
И вдруг кто-то налетел на Пал Тиныча из-за угла и ударил его головой в живот – не сильно, но чувствительно. Учитель не сразу, но понял – это Вася МакАров попытался обнять его и сказать этим объятием то, чего нельзя произнести словами.
Вообще, никто не знает, долго ли ещё люди будут пользоваться словами – и объятьями, когда слов не подобрать.
– Не плачь, Вася, ну что ты! – мягко, как сыну, сказал учитель. – Ты и так всё знаешь, о чём я рассказывал.
Он говорил это, но понимал, что Вася плачет не о том, что Полтиныч не успел открыть ему какие-то тайные знания. Он плакал потому, что его ровесники так многого не знали и теперь уже не узнают.
Дети всегда остаются детьми – но это, конечно, слабое утешение.
Пал Тиныч довёл Васю до дома, благо жили Макаровы всего в двух кварталах – а вот, например, Карпова возили в лицей через весь город. На прощанье мальчишка, как большой щенок, опять уткнулся головой, на сей раз в бок.
– Я вас никогда больше не увижу, – сказал он Пал Тинычу, всхлипывая.
Пал Тиныч дождался, пока Вася зайдёт в подъезд. В окнах светились украшенные ёлки, и учитель вспомнил прошлогодний школьный праздник – роль Деда Мороза должен был исполнять папа Крюковых – директор завода, краснолицый богатырь. К сожалению, папа выпил лишку, и пришлось выпускать на сцену семейного водителя – он был худой и маленький, дедморозья шуба висела на нём как на заборе, но в остальном он справился на ура.
Как хорошо, что приехал Артём с невестой, – её зовут Ян, «ласточка».
Пал Тиныч шёл домой и думал, что сегодня он навсегда перестал быть учителем – и в утешение ему останется только теория заговора.
А возле самого подъезда дорогу ему перебежала чёрная кошка....Екатеринбург, 2013
Вадим Левенталь
Ча-ща пиши с буквой кровь
Заранее над смертью торжествуя
И цепь времён любовью одолев,
Подруга вечная, тебя не назову я,
Но ты почуешь трепетный напев…
Владимир Соловьев
Марку подарили на день рождения фотоаппарат, но не такой: не цифровой, а плёночный; в него нужно было заряжать – папа так и сказал: заряжать – плёнку , а потом – там была ещё целая коробка вместе с ним – разводить раствор, проявлять, промывать, закреплять, печатать. Это Марк говорил, что мечтает быть фотографом (он другое имел в виду, ему хотелось тоже фотоаппарат , как у всех, но пришлось соответствовать).
Хочешь быть фотографом , – это папа сказал, а Марк по том как само собой разумеющееся говорил всем в школе, – научись сначала проявлять, печатать, всё руками, сам, чтобы понять процесс изнутри, а потом уже… – в школе слушали со скепсисом, но всё-таки уважительно кивали: антиквариат.
Проявлять и печатать оказалось трудно, но не чересчур – уже к концу августа Марку удавалось зарядить бачок так, чтобы плёнка не слипалась, подобрать температуру раствора и засечь время так, чтобы не перетемнить негатив, и его стал по-настоящему завораживать момент, когда в слабом красном, как рубин, свете, на белой бумаге из небытия, из прошлого, которого теперь нет, медленно, будто преодолевая сопротивление листа, проступали вещи, люди, тени – воробей, присевший на спинку скамейки, наклонивший голову вниз и вбок (уже испугался, но ещё не улетел), или вода, текущая из трубы, когда дождь уже закончился, и маленькое кристальное озеро в асфальтовой чаше кипит, расходится дергающимися кругами, или мама, обернувшаяся от стола: Ма-арк! кушать! господи, ты меня напугал (смазано), – они были, несомненно, теми же самыми, но в то же время другими, потому что нигде в жизни не встретишь её обездвиженности, и тем больше движение взывало к себе.
На второй неделе сентября Марк сфотографировал в школе девчонку – она сидела с ногами на подоконнике, уткнувшись в книгу, шёл первый урок. Он спросил, можно ли, она приподняла плечо и поджала губу – ему понравилось, как солнце просвечивает раковину уха (розовую, как кусочек каменной соли, который папа подарил после последней экспедиции), но кадр, конечно, оказался засвеченным; он проявлял плёнку на выходных, решил всё же напечатать – снимок ни к чёрту, но вот что: Марк был абсолютно уверен, что большого, в тени, под книгой, неразличимой формы перстня на среднем пальце её правой руки не было – быть не могло, он бы его заметил.
Это ведь не в одну секунду произошло. Марк прекрасно помнил, как сначала смотрел, оценивая, что может получиться, потом соображал, как спросить, – решил всё-таки вежливо: на «вы» и с «извините», – потом расчехлял, не спуская с неё глаз, камеру, потом примеривался, а ещё обещал подарить снимок, спрашивал, в каком она классе учится (в параллельном), и, не зная, как закончить разговор, сказал: что, не пустили? – ага, – ну ладно, я побежал . У неё было выточенное как будто из камня лицо с высокими скулами, маленький рот, большие, чуть раскосые глаза, завязанные высоко, почти на макушке, в пучок чернущие волосы и длинные худые пальцы – на этих пальцах не было колец, она заправляла ими за ухо выбившуюся на висок прядку волос. Он обернулся на неё ещё раз, когда отошёл на несколько шагов: она уже уткнулась обратно в книгу (задняя сторона обложки была пуста), и он очень хорошо запомнил эту картинку, потому что подумал, что, наплевав на ухо, нужно было снимать в фас – всё-таки против света он пока снимать не умел.
В понедельник Марк спросил у Бори – единственного, с кем в новом классе он пока общался, – знает ли он девчонку из восьмого «а»: чёрненькую, глаза раскосые, – тот не знал. А что? – Да фотку обещал подарить. – Они там в «а» долбанутые все. Покажи фотку.
Марку не хотелось показывать фотографию, и он соврал, что оставил её дома. Он и девчонке не собирался показывать снимок, но нужно же было проверить, что там с этим перстнем – может, он и в самом деле его не заметил. Пришлось смотреть по расписанию, где у «а»-класса биология, и мчаться после последнего урока со всех ног этажом ниже – и сбить на лестнице какого-то верзилу ( эй, мелкий! – но бегом-бегом вниз), – чтобы успеть к моменту, когда дверь отвалится вбок и в коридор сначала выпихнутся буйные, потом выйдут остальные и выползут, наконец, сонные, – чернявой с раскосыми глазами и худыми пальцами не было ни среди первых, ни среди вторых, ни среди третьих. Пара девчонок посмотрели на него, заинтересовавшись его ищущим взглядом, но подойти спросить он не решился.
Он увидел её на первом этаже под лестницей – она шла из туалета, Марк, стесняясь, сделал вид, что не обратил на это внимания. Она не помнила, но сразу вспомнила; он сказал, что кадр засвечен, она ответила «ясно», и тогда он, хотя, вообще-то, не собирался, это ему только что в голову пришло, предложил, что, может быть, он её пофотографирует (с интонацией профессионала: у вас лицо интересное , – но уши и руки всё равно выдавали его, конечно). Она сказала ну давай потом как-нибудь , и он только успел спросить, как её зовут, прежде чем она вставила в уши белые пуговки, – Полина . У неё были очень красивые пальцы, и на этих пальцах, ни на одном, не было колец. А я Марк , – слышала ли? Даже следов не было.
Сентябрь был как будто вторым августом – он длился и длился; жаркий сухой город иногда, в самые тихие моменты, казалось, гудел от усилия удержаться на краю осени; так было по утрам, когда Марк выходил на пустую набережную Карповки и впереди, у монастырского подворья, переговаривались утки, а сзади ровно шумел Каменноостровский, – появлялся звук, не относящийся ни к какому движению, гул в ушах, было ещё не изнурительно жарко, но чистое, лазуритовое, от края до края небо накалялось с каждой минутой; и так же было вечером, когда мама отправляла Марка на хлебозавод и он переходил из одного двора в другой, пересекая узкие, как коридоры, улицы, – скрипели качели, и женский голос протяжно кого-то, не то Ваню, не то Васю, звал, и в неподвижном упругом воздухе дрожал тот же гул; Марк иногда задерживал дыхание, чтобы лучше слышать его.
Засвеченный снимок Марк держал в отдельном конверте в ящике стола и доставал его, чтобы ещё раз всмотреться, перед сном, – в конце концов он пришёл к выводу, что плёнка могла поцарапаться в бачке или, может быть, пока плёнка сохла, на неё что-то налипло, а уж что брак похож на массивное, как будто с какой-то фигурой, кольцо, не более чем случайность, эффект, бывают ведь похожи облака на корабли или на великанских птиц. Тем не менее он собирался как-нибудь невзначай спросить Полину, не носит ли она колец, и камеру теперь брал всё время с собой не только потому, что это первое правило настоящего фотографа, но и на случай, если встретит её, – она ведь тоже жила где-то рядом. Марк снимал облупленные брандмауэры, которые, напечатанными, выглядели как геометрически отрезанное небо, разомлевших на горячих карнизах кошек, а один раз даже незаметно щёлкнул в открытое окно старика под вывеской «Ремонт обуви» – он согнулся над работой, и красноватый вечерний свет выхватывал его большое лобастое лицо из кружащейся пыли, из жёлтой темноты, как на картинах Рембрандта, – но, возвращаясь домой, всегда оставлял несколько кадров: а вдруг? Он видел Полину несколько раз мельком в коридорах школы и только слегка кивал ей: подойти вот так вот сразу было бы стратегически неверно – нужно было недельку подождать и потом как бы вдруг об этом вспомнить.

![Юлиана Еременко - Один шаг, навстречу жизни [СИ]](/uploads/posts/books/4888/4888.jpg)