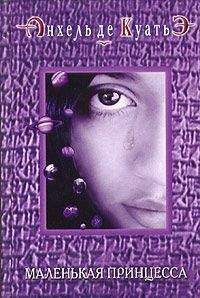Олег Ермаков - Вокруг света
А он и не стал дожидаться ночи. Только я приготовился нырнуть под тент и забраться в спальник – услыхал характерные шелестящие шажочки. Разогнулся, замер. И увидел рядом с пятном кострища другое сероватое пятно. Лис с серебряным воротом. Роется в золе. Сам как живой пепел. Исчезает. Доносится царапанье когтей по коре. Ага, полез на «гречневое» дерево. Спрыгнул. Тут мне померещилось, что лис направился прямиком к тенту. Мелькнула мысль о распространенном среди лис бешенстве, и эта мысль тут же как будто и дала вспышку, обернулась лучом фонарика. Нет, лис не собирался набрасываться на молчащего путника, держа нос по ветру, он бодро бежал к той березе с сервелатным подношением на грибе. И даже не обернулся на луч, вот те раз. Ну, не слепой же он. Мне вспомнились его узковатые зеленые глазенки. Дерзкие и острые. Я выключил фонарик. Можно сказать, погасил мысль…
Залез наконец-то в спальник. Слаще нет сна, чем в этом коконе тепла, неги холодной звездной октябрьской ночью в черной пустой дубраве. Дубрава и нега – по-пушкински звучит.
Лес, исполненный очей, моя дубрава.
Немного позже лис снова пришел и «поплясал» вокруг, на звучащем ковре густой листвы, да потом угомонился.
Лежал где-то в норе, сунув под бок японскую застежку, согревавшую его воспоминаниями о «гречневом» дереве да о березовом грибе с сервелатом…
Утром я напрасно шарил вокруг в поисках застежки, так и не нашел. Кружочки колбасы с трутовика исчезли, разумеется.
После обеда, оставив на «гречневом» дереве приманку, сел напротив с фотоаппаратом… И просидел так полным дураком, с фотоаппаратом наготове, до сумерек, прислушиваясь: ну? шуршит?.. Вот… вроде… Шуршит?.. Не шуршит. Даже звал его мысленно: лис, приди. Но лис и не думал сюда возвращаться. И вся эта история уже напоминала мне какую-то сказку.
На склоне с березами, мимо которых петляет моя тропа к ручью, вдруг заметил длинную нить пепла. Откуда? От моего костра прилетела? Но я жгу дрова, а этот пепел от травы. И точно, вдалеке в верховьях ручья заметил клубы белесого дыма. А под ночь заиграли сполохи на деревьях с другой стороны – горела Арефина горка. Слишком сухая осень. Воздух горчит. Хорошо, что ушел с родника, там высоченные сухие травы вплотную к стоянке подступают. А здесь уже много лет нет никаких палов. Все палы отсекают ручьи, с одной стороны – Волчий, с другой – Городец. Охотники и грибники сейчас ленивые, сюда никто не добирается. Ну, прошлогодней осенью один охотник с манком и лайкой прошел, и все. Остальные стараются от своих автомобилей далеко не отходить. Вообще увидеть на этих дорогах след человека – событие, напоминающее появление Пятницы на острове Робинзона. Вывелась порода пешеходов. По полям России снуют новые кентавры. Они и палы пускают. И гадят пластмассой, жестянками. Сердце у них точно механическое, по древнему речению. «Сегодня здесь нагадим, а завтра будем далеко, – думают они, – страна большая». И мчатся по дорогам, заправляясь музыкой – конечно, не Малером и не Глинкой, а такой же пластмассой и жестянкой.
Утром лишь оторвал голову от подушки из куртки и штатива в чехле – и поплыл… Голова кругом. Надышался дымом. Собирался в город, но и после обеда голова шла кругом. Остался. О лисе уже и не помышлял. А он тут как тут – шелестит. Фотоаппарат на этот раз был поблизости. Лиса щелчки затвора насторожили. И, не добежав до меня метров десяти, он повернул, потрусил прочь и вдруг вскарабкался по стволу надломленного дерева, не «гречневого», другого, подальше. Свидетельствую: лис взобрался на высоту двух с половиной метров. Просто так. Ну, или упреждая мой бросок, например. А то ведь раньше я тихонько себя вел, а тут защелкал. Снимать мешали ветки кустов и стволы деревьев. Объектив у меня не охотничий, пейзажный. Ну, это как если бы человек шел на охоту не с ружьем, а, допустим, с ракетницей. Зверя ракетницей отпугнешь, а застрелить – не застрелишь. Хотя прожечь ракетница может. Прапорщик по кличке Одесса, блатноватый, ушастый, долговязый, спьяну запустил осветительную ракету в старлея нашей батареи, и тот с приклеившейся к хэбэ ракетой бросился в бассейн, но она и под водой горела, и тогда он сорвал куртку и отделался лишь несильным ожогом.
Так что, может, и зря я караулил лиса.
И он, словно понимая, что у меня нет ни настоящего, ни фотографического ружья, картинно вышагивал, спускаясь по надломленному стволу, ведущему от высоченного пня к земле. Это выглядело как настоящее циркачество. Наверное, так он спасается от преследования опасных противников, волка, например, или охотничьей собаки. Ведь если он затаится наверху, то собака пробежит мимо и собьется, закружит, потеряв след. Правда, может и вернуться к дереву и тогда будет облаивать, как белку, пока не подойдет охотник.
Пройдясь по стволу, лис вновь оказался на земле. Потянул носом. Запах приманки, запах чудесного «гречневого» дерева. И лис направился к нему. Я безуспешно боролся с машиной. Лис влез на «гречневое» дерево, посмотрел внимательно на меня сквозь ветки. Все-таки это оголтелое щелканье показалось ему слишком неприятным, и он предпочел не трогать угощение, а соскочил и побежал прочь. Сразу скажу, что различить на фотографиях лиса потом было не так просто, бывшая моя учительница, например, не смогла его увидеть, пришлось обводить акробата-древолаза красным кружком. Но были и фотографии, где лис на земле и заметен. Да это довольно тусклые снимки. Виделось-то мне все по-другому. Часто фотография и помогает понять, что мы живем в каком-то другом мире.
К ночи меня уже мутило, это было давление, и кромешная тяжкая тьма наползала, она была чернее, непрогляднее ночи, кажется, я потерял сознание, отключился, а может, только рухнул в черную дыру сна, так и не понял, очнувшись посреди ночи.
Через два дня, отлежавшись в пуховом спальнике и почувствовав себя лучше, я затолкал вещи в рюкзак «Тибет», потрепанный лисом, и пошел к железной дороге. От Воскресенского леса поднимался дым. Дымы вставали и около Днепра, за Днепром. Наступила суббота, и смоленские кентавры кинулись играть с огнем. Арефина гора выгорела наполовину. Сгорела трава и на курганах. Огонь опалил курганные березы. Когда я отдыхал на втором Арефинском холме, мимо проехала белая «Нива» – как раз со стороны Воскресенского леса. Поджигатели? Точно. Автомобиль ехал среди колышущихся сухих трав, затормозил, двинулся дальше, а позади взвихрился дым, потом и огонь стал виден. И проследить за его маршрутом можно было по новым вспышкам. Вот они таинственные поджигатели на авто советской выделки. При чем здесь советская эпоха? Не ведаю, может, и в дореволюционной России палы пускали, но знаю точно: колхозное – значит ничье. Была такая поговорка, и она вошла в плоть и кровь наших жителей. Нет давно никаких колхозов, а поговорка жива – вот она трещит огнем, коптит небо, торчит железками из изуродованной загаженной земли. Номер машины я не сумел раньше разглядеть, а потом она и вовсе укатила. Впору молиться, чтобы небеса не посылали сухой солнечной погоды нам. То, что немцу хорошо, русскому – кирдык, дым и обгорелые ветки. Сколько уже писали-голосили о лесных пожарах, о сгоревших хатах. Кстати, последние дома на этом другом Арефинском холме как раз и сгорели в засуху. И не надо говорить о самовозгораниях! О линзе стекла, сфокусировавшей луч солнца. Может, где-то в альпийских лесах и линза виновница, а здесь вон ухари на белой «Ниве» носятся по высохшим дорогам, веселятся. Хотя, я думаю, это делают охотники. Чтобы потом гоняться за косулями, зайцами и лисами по полям на своих автомобилях. Впрочем, может, и просто дураки, мало ли их на этих дорогах.
…Одни на автомобилях рассекают, другие – так, пешочком пробираются среди снов и каких-то химер.
Уже на закате по Малеровской дороге выходил я на Ельнинский большак. В небе летели клочья облаков и где-то ползли тучи со снегом и дождем. Свет шел особенный, влажноватый, масляный, густой. И мне мерещился лис. Арефинский лис – как будто он меня сопровождает, то в небе бежит, то за липами скачет. Тут уже я мог его снимать, не сетуя на объектив. Вдруг вспомнил, что в той Первой симфонии у Малера есть лесные шутовские похороны: звери охотника хоронят и льют слезы. Вот и мой лис уже брызгал хитрыми слезками. Ветер наносил дождь.
Полустанок в сумерках был пуст, горел фонарь, дорога уходила прямо под тучи. Я снял рюкзак. И через некоторое время услыхал прерывистое дыхание и внезапный оклик по имени. Оглянулся, недоумевая, кто тут может меня знать, и ожидая увидеть человека с собакой. Но на тропинке вдоль железной дороги никого не было. Ни собаки, ни человека.
В поезде старик, ехавший из Починка, спросил: был тут снег? Я ответил отрицательно.
– А там все белым-бело, – сказал он, кивая назад, в сторону Починка.
Я задержал взгляд на его белой бородке, висках.