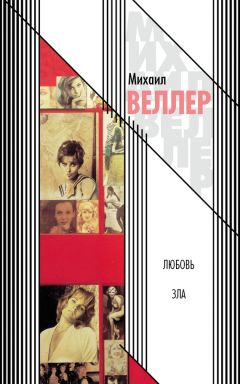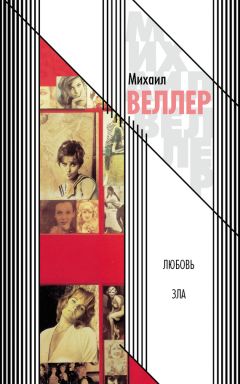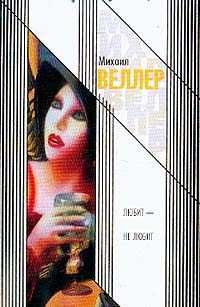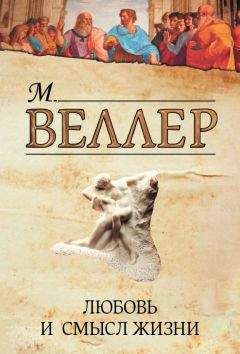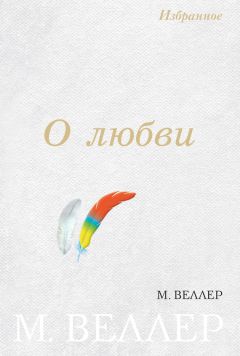Алексей Смирнов - Обиженный полтергейст (сборник)
– Как это пропала? – та, отдуваясь, положила ношу на столик.
– Мы в прятки играли! И она куда-то залезла! И молчит! Я зову, а она не отвечает! Она обычно всегда отвечает, не выдерживает!
– Успокойся, – мама быстро прошла в гостиную, огляделась. – Карина, вылезай!
Не дождавшись ответа, она повернулась к Мите:
– А что – у папы ты спросить не мог? Почему такая паника?
– У папы? У какого папы?
– У твоего!.. Он сегодня выходной, спит без задних ног в спальне.
Митя попятился.
– В спальне папы нет.
– Как это – нет? Полчаса назад храпел, как сорок паровозов, и здрасте – нет!
Мама распахнула дверь в спальню и на пороге остановилась при виде аккуратно застеленной кровати и очков, лежавших на тумбочке в изголовье.
– Черт знает, что такое, – пробормотала она. – Погоди, в туалет схожу, а то не выдержу. А после разберемся.
Она заперлась на задвижку, зашуршала бумагой. Зашумела вода.
Митя без дела и мыслей слонялся из комнаты в комнату. Часы пробили полдень. Он прислушался: вода слилась вторично, потом еще.
– Мам, ну вылезай ты, наконец! – взмолился он жалобно.
Вода продолжала шуметь остаточным шумом.
– Мама! – позвал Митя.
Ему ответила мертвая тишина. Он взглянул на столик, заваленный продуктами и газетами.
– Мама!! – заорал он, приседая на корточки и тут же опрокидываясь на пол. Ни звука, ни шороха. Ушла? Ключи на столике, там же, среди сумок.
– Слышишь? – прошелестело у него над ухом.
Он кивнул, не оборачиваясь, пуская слюну. Издалека долетали дикие, исступленные вопли.
– Им там ох как несладко, – сказал ночной голос. – Понимаешь? Там очень жарко. Неслыханно жарко. Но там же веревочка! Огонь к огню. Ведь ты ее сжег. И все они ищут веревочку. Она горит, они ищут, и будут искать, пока не найдут. И им будет гораздо, несравнимо жарче, чем какой-то веревочке.
– Так выпусти их, она все равно сгорела, – отозвался Митя почти неслышно.
– Ну, нет, чем больше людей участвует в поисках, тем скорее найдут. Да что ты сидишь! Пошли! Ведь жег-то ты! Ты спалил! На тебя вся надежда! Давай, утри сопли, и отправляйся со мной… С тобой-то мы их быстро вызволим… Ты у нас голова… наша опора… Сейчас прямо и найдем… Давай, паря, вставай-ка, тебя ищут и ждут… Даже потеха: он их – здесь, а они его – там! Рукавицы искали, а те – за поясом. Шевелись, шевелись, поторапливайся!
© июнь 2000Манна
– Жри, – приказал человек.
Его сын, подросток лет четырнадцати, молчал и упирался, но отец крепко удерживал его за меховой воротник.
– Жри, дома пусто, – настойчиво повторил отец. Перчаток на нем не было, и пальцы побагровели от холода.
Манна выпала ночью. По виду она ничем не отличалась от снега, и все горожане были рады ему после теплой, дождливой зимы, давно не редкостной в исконно северных краях. На кухнях исступленно и безграмотно шептали про Гольфстрим.
Но манна жгла, словно лава, побелевшая от ярости зимней обманчивой белизной. Ударил мороз, но она не давала тепла.
Стоило поднести к ней ладони, она не грела.
– Ешь, – отец толкнул сына-подростка, и тот едва не упал на колени – его шаровары, случись такое, сейчас бы обуглились.
Оба теснились на тротуаре, на крышке люка, откуда валил пар, перед которым были бессильны и снег, и то, что его заменило. Добирались скачками, по доскам и битому кирпичу. Крыши домов дымились, но дома стоял волчий холод. Царила дикая стужа, и плавились полозья кем-то брошенных санок, пылала горка, а неосторожные, забытые варежки разгорались беспомощными факелами.
Казалось, что жгли на потеху, как некогда поджигали пингвинов их первые открыватели. Периодически шел редкий дождь из жаб, которые мгновенно замерзали хоть и в шекспировских объятиях, зато в арабских сексуальных позах.
Отец нагнулся, достал из сумки черпак и термос, украшенный китайскими поднебесными павлинами. Павлины сидели молча и равнодушно рассматривали друг друга. Он принялся, орудуя черпаком и черенком попеременно, набивать термос неподатливой манной.
– Мамуля голодная, – приговаривал он, сдувая с черенка крупицы манны. – И на саночках не свезешь хоронить – кремируется… Где мамуля, где саночки – шут его разберет…
В окнах маячили редкие перепуганные лица, но отцу было все равно.
Он старался не смотреть на обугленных птиц, собак и кошек, еще дотлевавших на детской площадке. С помойки тянуло смрадом.
– Богом тебя заклинаю – ешь! – взмолился отец. – Смотри – я же ем.
Он пригубил из черпака.
– Прямо с земли? – спросил его сын, чуть успокоенный.
– Да, прямо с земли.
Подросток, не отрываясь, взирал на догорающие автомобили и железные качели, раскаленные добела. Деревянные сиденья превратились в уголья. На месте игрушечных пластмассовых ведер, накануне забытых по странной коллективной забывчивости, образовались разноцветные пятна, издававшие резкий химический запах.
Небо было чистое и солнечное. Высоко-высоко петляла хвостатая искорка-звездочка – реактивный самолет.
Свирепствовала сирена, гудела сотня гудков.
– Ешь, – рассвирепел отец, отказываясь от домашнего, наполовину бранного, наполовину шутливого «жри», и сын сообразил, что еще немного – и тот толкнет его лицом в искрящийся снег, отражающий жадное зимнее солнце.
Он принял черпак и начал есть.
– Сладко, – заметил он мрачно и недоверчиво. У него был переходный возраст, и он всегда ходил мрачный, покрытый прыщами. И постоянно перечил, имея особое мнение по каждому поводу.
– Нормально, – не удержался он от похвалы. – Но соли маловато. На манную кашу похоже.
Отец завинчивал термос. Он подбросил его в руке, испытывая на вес.
– Обувь береги, когда тронемся. Она горит, не напасешься, – предупредил он сына, скашивая глаза на собственные, слегка оплавленные ботинки.
…Через четыре же ночи случилась пурга, предрассветная.
© февраль 2005Дырявый товарищ
Зодиакальные Раки питают слабость к старым вещам.
Когда мне было шесть лет, я еще не успел осознать себя зодиакальным Раком, и новые вещи мне тоже нравились. Не всякие, конечно. Однажды мне подарили новое одеяло, на которое мне, желавшему чего-то другого нового, было глубоко наплевать, и бабушка сильно обиделась, что не сделало чести ее рассудку. Совсем иначе вышло, когда отцу купили новый письменный Стол, который, по сумме трех измерений, будет писаться с заглавной буквы, а мне отдали его прежний, для него старый, но для меня – новый. Потому что раньше у меня вообще не было никакого стола. Его перенесли в гостиную, совершенно пустой, с покрытием из кожного заменителя, без стекла, и мама положила на него какую-то толстую книгу – по-моему, словарь или том Марка Твена. Я молча подошел и переложил сей предмет на другой стол, обеденный. Как будто походя, случайным движением, «прихватил», освобождая поверхность. Будь я животным, оставил бы метку и застолбил место.
– Ну, парень, нельзя же быть таким жадным, – сказал отец, и я не помню, что сделал – вернул ли фолиант на место или оставил перемещенным.
Я не припомню и того, чем заполнял этот стол – ни вещей, ни идей.
Зато по достоинству оценил Пространство под столом, квадратную пещеру с перекладиной. Та перекладина располагалась так, что на ней не повеситься, она предназначалась для коротеньких ног, и это мое нынешнее лезет в минувшее со своим прикладным пониманием перекладин и балок. Я забирался под стол прятаться. О чем я там думал, неизвестно. Мне было мало открытой пещеры; я выпросил тряпку и кнопками пришпилил ее к полированной кромке – завесил первобытное пространство, как шкурой. Конечно, то был аналог потайных уголков моего подсознания, но там находились настолько сложные вещи, что я просто не мог их воспроизвести под столом, и тайное оставалось непроявленным и нематериализованным. Там не было ни единой игрушки.
Порывшись в темном углу души, я не задерживался и быстро вылезал. Бывало, я умилял этим кого-то; бывало, что нет. Играет себе ребенок – и слава богу.
Передняя кромка по сей день осталась дырявой; их там десятки, сотни кнопочных дырок.
С годами стол заполнился и переполнился, готовый лопнуть от несварения желудка.
Меня постоянно терзали да мучили: прибери – да сейчас, я уже разбежался, уже прибираю. В древнем дядюшкином радиоприемнике, что маялся в углу стола под кипой конспектов, среди радиоламп хранился моточек бинта, пропитанного маковым соком.
Стерилизатор в тряпице, упрятанный в дутую папку с бумагами.
В каждом ящике, за книгами, тетрадями и, стыдно выговорить, рукописями – порожняя посуда из-под зелена вина.
Однажды ее нашли всю сразу и демонстративно выставили на обеденный стол, чтобы я устыдился, но я устыдился гораздо меньше, чем в день, когда перекладывал туда мамину книгу.