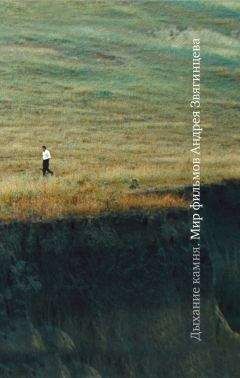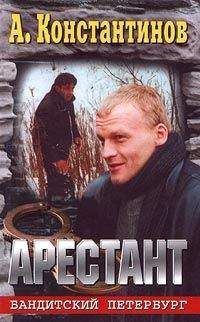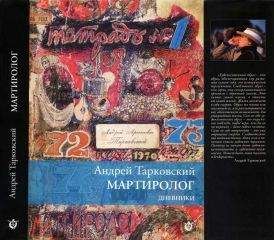Андрей Смирнов - Лопухи и лебеда
И швырнула сигарету.
Успенский растерялся. Растерялся и Пьер.
– Чего ты? Ну, не злись… Я же так, шутя. Извини…
Поезд останавливается, двери разъезжаются. Люди выходят. Успенский широким жестом указывает на надпись на платформе:
– Добро пожаловать в Лианозово – наш советский Барбизон!
На холсте изображена селедка, лежащая на газете. Успенский, Кира, Пьер и еще двое, мужчина и женщина, рассматривают картину.
В тесном бараке многолюдно и шумно. На кухне гости толпятся вокруг стола, слышен смех и звон стаканов. Один из гостей подкладывает поленья в печку. Хозяйка, сидя на корточках, снаряжает мальчика на улицу, застегивает пальтишко.
В комнате мольберт поставлен напротив окна в узком пространстве между железной кроватью, раскладушкой и детской кроваткой, зрителям приходится топтаться на пятачке, заглядывая через плечо соседа.
– Мрачновато, Оскар. – Женщина качает головой.
Кира улыбается:
– А по-моему, прелесть…
Оскар, длинный худой парень в очках, снимает картину с мольберта и ставит другую – натюрморт с букетом полевых цветов. Холсты, один за другим, стоят на полу, отвернутые к стене. В углу девочка лет десяти, примостившись на полу у табуретки, рисует цветными карандашами.
Картины на мольберте меняются – барак, освещенный солнцем, натюрморт с чашкой и свечой, бутылка водки и разрезанная селедка. Успенский смеется:
– Ну, ты верен себе…
Оскар пожимает плечами.
– Можно еще раз вот тот, где свечка и чашка? – просит Кира.
– А по какому поводу праздник?
Оскар перебирает холсты и стеснительно улыбается:
– Меня взяли в штат на комбинат…
– Как? Расстаться с железной дорогой?
Смеясь, Оскар ставит на мольберт натюрморт со свечкой.
– Это же настоящая живопись, – нервно говорит Пьер. – Напоминает немецких экспрессионистов…
– Кого?
– Ну, Шмит-Ротлуф, Кирхнер… Знаете?
– Я их никогда не видел. Знаю только Шиле, у Володи есть альбом его репродукций…
– У вас и колорит близкий к экспрессионистам.
– Я пишу ту жизнь, которой мы живем. Я могу писать только то, что вижу вокруг…
На кухне, теснясь вокруг стола и перебивая друг друга, разливают водку и расхватывают закуску – селедку, картошку и черный хлеб. Оскар с блуждающей счастливой улыбкой обнимает за плечи жену. Успенский протягивает налитый стакан Кире, потом Пьеру.
– Где же тост, Володька? – кричит Лида.
– Да вы же не даете сказать!
– Тихо, граждане! Володя говорит тост!
– Ребята, я хочу выпить за удачу. За удачу комбината декоративно-оформительского искусства, который по своей серости даже не подозревает, какое крупное дарование он приобрел в лице нашего друга Оскара!.. Ты уже получил первый заказ?
– Два! Плакаты для ВСХВ: “Советская молодежь шагает в светлое будущее” и “Колхозное птицеводство – на промышленную основу!”
Взрыв смеха встречает его слова.
– Как справедливо заметил незабвенный Сергей Васильич Герасимов, принимая Оскара в Суриковское, рисунку можно научиться, живописи – никогда… Страшно подумать, что это будут за сногсшибательные плакаты, когда Оскар вложит в них свой убойный живописный дар!
Ему отвечает гогот и улюлюканье.
– Особенно птицеводство!
– За удачу Оскара! Ему больше не нужно искать работу. Ни десятником, ни дворником, ни сторожем. У него теперь есть законное место под солнцем. Он – штатный работник комбината. Он – художник! И никакая милиция ему не страшна! Гип-гип-ура!
Все кричат “ура” и чокаются.
– В первый раз в жизни я зарабатываю на хлеб карандашом и кистью… – с растерянной улыбкой говорит Оскар.
Входная дверь хлопает, на пороге кухни возникают двое милиционеров.
– Граждане, прошу предъявить документы…
В ГУМе Пьер стоит в очереди за ушанками. Наконец он оказывается у прилавка. Толстая продавщица громко спрашивает:
– Размер?
– Я не знаю…
– Что за народ, своего размера не знает…
На шее у нее болтается сантиметр. Она измеряет голову Пьеру:
– Пятьдесят восемь!.. Пятьдесят восьмого нету, есть шестидесятый…
Она протягивает ему серую суконную шапку с темным коричневым мехом, поворачивает к нему зеркало на прилавке. Пьер надевает шапку, она съезжает ему на глаза. Из очереди дают советы.
– Дак она сядет, под снег, под дождь попал – и все, она села…
– Велика… – бормочет Пьер.
– Нету меньше, говорю же! Пятьдесят седьмого четыре штуки осталось…
– Давайте…
Она забирает шапку и достает с полки другую. Пьер меряет, ушанка с трудом налезает на голову.
– Давай скорей! – кричат из очереди. – Мужик, ты чо, заснул?
– Бери, чего дают, – сварливо советует продавщица. – И этой не будет…
Взгляд его в зеркале полон отчаяния.
– Давайте большую…
Пьер выходит из ГУМА на улицу 25 Октября. Большая серая шапка с поднятыми ушами съезжает ему на брови. Он поправляет ее и настороженно оглядывается по сторонам. Метет снег. Вокруг течет озабоченная толпа. Никто не обращает на него внимания. Он вздыхает и направляется к метро.
В общежитии в прихожей Пьер придирчиво разглядывает себя в новой шапке в зеркале над умывальником – то поднимет уши, то опустит. Дверь из коридора распахивается, появляется Микола, весь в снегу.
– Здорово… С обновой?
Он отпирает свою комнату, косясь на Пьера. Тот, застеснявшись, снимает ушанку.
– Так она тебе маленько велика… Дай напялить!
Он стаскивает свою, надевает шапку Пьера и становится к зеркалу. Новая шапка отлично сидит на его большой голове.
– А ну, пытай мою! Кожаная…
Потная ушанка Миколы потерта, но пошита из кожи и крыта темной овчиной. Преодолевая брезгливость, Пьер натягивает ее, она ему приходится как раз.
– Шик! Махнем не глядя?!
– Не понимаю…
– Поменялись? Моя тебе идет потрясно! Давай пять…
Они обмениваются рукопожатием.
– Будь другом, займи двадцатку до стипендии…
Успенский и Пьер заходят на двор автобазы. МАЗ с прицепом въезжает в ворота. Здесь и там стоят грузовики.
– Он мужик злой, учти, – рассказывает фотограф. – Ненавидит весь мир. Отец его терпеть не может… Устюгова где искать?
Чумазый слесарь, которого он остановил, машет рукой в глубину двора:
– На яме вроде был…
Успенский заглядывает под полуторку, стоящую на яме:
– Дядь Вань, здрасте, это мы…
Из-под грузовика показывается мужик с разводным ключом, окидывает их недоверчивым взглядом:
– Не выходит…
– Вы сказали – в час. У вас обед будет?
– Мало чо сказал. Вон энту сунули…
– Да ладно, мы подождем…
Они курят возле диспетчерской.
– У него вся семья погибла в ссылке – дети, старики. Их раскулачили и сослали куда-то на Енисей. Он один выжил. Его посадили. Из лагеря – на фронт, в штрафную роту. Попал в плен, вернулся. И опять в лагерь…
– За что? – спрашивает Пьер.
– Сказал же, вопрос риторический… Из тех, кто прошел плен, много народу получали десятку за измену родине…
– Ты говоришь, он злой?
– Алик, кореш мой, тот самый, что издает “Грамотей”, хотел сделать интервью для нашей газеты. На втором вопросе Утюг его обматерил и пытался дать в морду. Так что – будь осторожен…
В уголке диспетчерской у окна пристроились на скамейке Успенский, Пьер и Устюгов – широкоплечий мужик с редкими стальными зубами, с большими руками и черными плоскими ногтями. Перед ним на белой тряпице черный хлеб, вареная картошка, крутое яйцо, нарезанная луковица. Он неторопливо, с усилием жует, запивая обед бутылкой “Жигулевского”.
– …Аполоныч?
– Алексей Аполлонович Татищев, бывший офицер.
– Граф, что ли?
– Он вообще-то из дворян, но никакой не граф.
– Энто кликуха лагерная… Какой из себе-то?
Пьер лезет за бумажником, достает пожелтевшую черно-белую фотографию. На ялтинском пляже мужчина в длинных плавках держит на руках девушку в полосатом купальнике.
– Это тридцать первый год, он тут еще молодой…
Устюгов, едва глянув на фото, отворачивается и молча жует. Наконец роняет:
– Он и есть, гад… Самый граф.
Пьер растерянно смотрит на Успенского. Тот, помедлив, осторожно спрашивает:
– Почему “гад”?
– Они в побег ушли.
Его крестьянская физиономия с рязанским курносым носом и оттопыренными ушами не выражает ничего, кроме крайней усталости и равнодушия, кажется, он сейчас заснет.
– Они ушли, а мы-то осталися. Хлебать по полной… Псарня озверела…
– Псарня?
– Конвой… Только пайку прибавили. Сорок второй год, война кругом, мы теперя не враги, а надёжа родины. А тута серпом – тринадцать зэков к зеленому прокурору ушли…
Он замолкает, жует, уставясь в пол. Успенский не выдерживает:
– И чего?
Устюгов поднимает колючий ненавидящий взгляд:
– Режимом душить стали, падлы… Три дня не кормили, а после пайку еще убавили – трехсотка, совсем сосаловка…