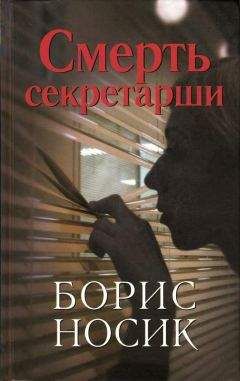Борис Носик - Смерть секретарши (сборник)
Конечно, это, с одной стороны, заслуживало всяческого восхищения, что человек в таком зрелом возрасте не гнушается входить в смежные профессии. С другой стороны, это было чревато осложнениями для всякого, кто хотел сберечь в сохранности свою собственную строку, свое авторское слово, свою фотографию или картинку. Ибо создавалась довольно опасная ситуация для авторов – когда шеф знает все. Знает все лучше, чем все, – на то он и шеф. Капитоныч утвердился в этой мысли сравнительно недавно, после немногих случаев попадания (среди тысячи честно забытых промахов) на таких же вот разборах, так что сотрудники еще не успели привыкнуть к новым сложностям, вытекающим из этой убежденности. Спорить с ним, впрочем, никто не хотел, потому что Капитоныч, судя по всему, сидел прочно, да и сам уходить, кажется, не собирался. Не собирались пока уходить и остальные сотрудники. Поэтому все поддакивали, надеясь, что реальных последствий вся эта шефова ахинея все-таки иметь не будет. Тем более никого не задевали глубокие соображения шефа по поводу фоторепортажа, которые он сегодня с таким жаром высказывал. Никто, кроме Гены, который был автором снимков и потратил на них целую неделю, тоскуя в грустном сибирском поселке строителей.
– Вот здесь у вас контровой снимок, – сказал шеф, обращаясь к Гене. – Отчего здесь контровой? Зачем, скажите мне, эти уловки? Снимайте впрямую. Телевиком. Или вот стена. Бревенчатая стена – это хорошо. Это дает фон. Биографию. Стена – это русское. Но зачем столько стены? И такая маленькая головка? Разве у нас человек не главное? Разве не он создатель всех материальных ценностей и нашего процветания? Одежда, вот здесь, – если бы вы изменили одежду, этот снимок мог бы пойти, никто бы вам ничего не сказал. Наш народ сегодня одет как никто в мире. Постарайтесь, вы можете, мы в юности справлялись и не с такими трудностями… Панорама вот здесь – хорошо. Но недостаточно широко. А что там, за домами? Мы хотим знать. Хотим выйти в большой мир. В целом, конечно, неплохо, но поработайте еще. Учтите все конкретные поправки и…
Все молчали. Кто читал, кто чиркал что-то свое, и казалось, что слушает один Гена. Выяснилось, впрочем, что слушает еще старик Болотин, тот самый, что подписывал свои фотографии «Семен Ефросиньин».
– Всем понятно? – сказал шеф. Он перевел дух и собирался уже объяснить Валевскому кое-что о поэзии, когда послышался вдруг скрипучий стариковский голос Болотина. Это было так неожиданно, что все подняли головы. Неожиданно было, во-первых, что вообще заговорил старик Болотин, который всю жизнь помалкивал (именно из-за того он и уцелел, наверное, при всех шефах, несмотря на очевидную сомнительность своего происхождения). Неожиданно было и то, что он заговорил, когда никто не спрашивал его мнения. Что он заговорил самовольно, а главное – заговорил своевольно.
– Вы спросили – понятно ли? Конечно, нам с Геннадием как специалистам кое-что в этом деле понятно, – сказал он. – Но вот что понятно вам, Владимир Капитонович, я даже не понял. Потому что для того, чтобы это понять, надо этим хотя бы немножечко заниматься. Пусть не сорок лет, как я, и не десять, как молодой Геннадий, но что-нибудь надо про это знать. Что-нибудь понимать и чему-нибудь учиться. Даже, не буду хвастать, к этому надо иметь специальные способности, хотя, конечно, техника теперь от многого избавляет и щелкают кто попало…
– Что вы все-таки имели в виду? – спросил шеф несколько растерянно. Он жалел уже, что не одернул вовремя этого болтливого старика, и до сих пор еще не понимал, к чему ведет Болотин.
– Я имею в виду, что первый снимок вовсе не контровой, а самый что ни на есть нормальный, так что вы напрасно сердитесь. В нем есть настроение, это правда, хороший снимок. А как это снять впрямую телевиком, я тоже не понял, может быть, вы объясните. Вы что-нибудь сами снимали телевиком? Если нет, то зачем он вам тут дался, телевик, тем более что тут снимать впрямую… Ну хорошо, стена вам эта нравится, но она потому вам нравится, что ее много. Конечно, это для профессионала не открытие, такой примерно снимок был уже лет пять назад в «Советской фотографии», но это красиво, так что творцу всех наших ценностей это не повредит. А самое главное – объясните, как переодеть людей на снимке. Пусть он даже, туда-сюда, поставлен немного, этот репортаж, но, чтобы переодеть на фотографии людей, надо ведь снова лететь туда и заново все ставить. Вообще, переодевать людей – совсем незавидное занятие, и репортаж тогда ни при чем. Конечно, мы все делали, мы даже им шили костюмы специально к съемке, но время тогда было хуже, чем теперь…
Владимир Капитоныч почувствовал себя очень плохо. Вероятно, у него было что-то неладно с давлением. Может, именно это и помешало ему вовремя остановить старика. Он шарил у себя в ящике и, не находя чего-то, то ли таблеток, то ли бумаг, становился все краснее.
– Что же касается панорамы, – продолжал нудить старик Болотин, – то здесь очень широкая панорама, если вы видели шире, то скажите, как вы это понимаете. Зная поселок, или, как вы говорите, эту действительность, можно догадаться, что там у них дальше, за домами. Там деревянные сортиры. Вы, может, бывали в этих поселках. Такие, знаете, будочки. Потому что канализация в этих домах всегда не работает, а куда-нибудь сходить надо, хотя бы и новая жизнь, так что приходится по старинке, знаете, на морозе, но если эти будочки войдут в панораму, то это испортит картину современности и вы сами скажете: «Хальт! Но пасаран!» Так что вы уж простите, что я сказал пару слов. Но я думал, уж если идет разбор, так пусть будет разбор…
Теперь уж никто не дремал. Теперь слушали все. Всем было интересно, что на это скажет шеф и чем все это может кончиться. Но шеф не сказал ничего. Наверное, ему стало совсем уж худо. Он промолчал, потом буркнул:
– Ладно, идите, товарищи. Мне сейчас некогда, надо в обком.
* * *– Что бы это все, по-вашему, могло значить? – спросил Коля у Евгеньева.
Обозреватель пожал плечами. Они стояли в конце коридора, у тихой курилки.
– Я думаю, старик собрался в Израиль, так что теперь ему море по колено, – сказал Коля.
– Ну и что, если собрался? Все равно их не очень выпускают, – сказал Евгеньев. Он был в курсе, потому что по просьбе сокурсника подкармливал иногда одного «отказника» (писал этот человек под псевдонимом, конечно, и даже деньги получал за него другой).
– А все же это, наверное, большой кайф, – сказал Коля. – Взять вот так раз в жизни, хоть раз – взять и врезать Капитонычу. Все сказать, что ты о нем думаешь.
– Непонятная история, – сказал Евгеньев. – И никто нам ее не объяснит.
– Как знать, – сказал Коля. – Риточка может знать. Она все знает. В этом ее сила.
– Без нее далеко не уедешь, – согласился обозреватель.
– И заметь, при всякой власти она будет в силе, – сказал Коля. – Может, она и есть это загадочное среднее звено.
– Может быть, – согласился Евгеньев. – Пойдем спросим у нее.
Риточка ворковала с Геной. Это был деловой разговор, но они вели его очень тихо, чуть не шепотом, это придавало разговору любовно-интимный колорит.
– Не тушуйся, – убеждала Рита. – Замени одну-две фотографии. Сделай вид, что теперь все по-другому. А я уж сама ему отнесу – скажу, ты улетел в командировку. И не беспокойся, все будет о’кей. Понял?
Гена смотрел на Риточку с восхищением и благодарностью. Вошли Коля с обозревателем. Евгеньев спросил:
– Риток, ты не знаешь, что со стариком Ефросиньичем? Какая муха его укусила? Нет, нет! – Обозреватель повернулся к Гене. – Нет, я не говорю, что он не прав. Он прав по существу, но откуда такая смелость? Прямо как Александр Матросов.
– У Семенгригорича рак, – сказала Рита вполголоса и прижала к губам пальчик.
– А тебе-то, тебе как известно? – изумился Коля.
– Семенгригорич со мной поделился. – Рита кивнула с печальным достоинством. – Очень его жалко.
– Вот так, – сказал обозреватель.
– Да, вот так, – согласился Коля.
Гена встал. Он испытывал неловкость, когда мужчины окружали Риточку. Он еще не привык к своей новой роли, тем более что и роль его, кроме них двоих, пока еще никому не была известна.
«Надо сказать, надо объявить всем», – подумал Гена. И отметил про себя, что мысль эта его страшит. В подобном объявлении было что-то окончательное, непоправимое.
– Пока! Я тебе еще позвоню, – сказал Гена и вышел.
* * *Обозреватель Евгеньев должен был отредактировать комментарий о положении на Ближнем Востоке и до конца дня отдать его шефу на подпись. Надо было уйти к себе в комнату и за полчаса отделаться от комментария, но он не уходил. Он сидел в предбаннике, в своем любимом углу напротив Риточки, и поверх очков наблюдал за редакционной жизнью. Рита сегодня, в который уж раз, удивила его своими странными, совершенно неофициальными отношениями со стариком Болотиным, и теперь Евгеньев с любопытством ждал новых сюрпризов. Что же до комментария, то комментарий Вальки Рабиновича, который писал под звучным псевдонимом Днестров, не нуждался ни в каком редактировании, потому что Валька, настрочивший тыщи этих комментариев, не хуже самого Евгеньева знал все эти затрепанные слова, которыми положено было говорить про международное положение и внешнюю политику (даже пословицы были из года в год все те же – «шила в мешке не утаишь», «собака лает, а караван идет дальше»). Единственное, что вызывало возражение у Евгеньева (но оно не подлежало редактированию), был Валькин псевдоним: и что они, точно итальянские евреи, цепляются за эти свои географические псевдонимы – Днепров, Волгин, Днестров? Столько же есть еще нетроганых, исконно русских фамилий, какой-нибудь Сидоров, Саморуков, Козлов, Баранов, Хомяков, Колесников…