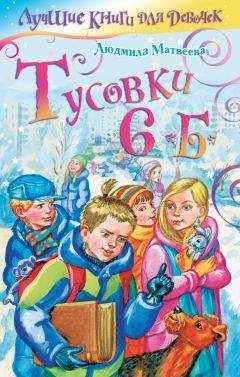Людмила Матвеева - Бабка Поля Московская
Была молоденькая фельдшерица костлява и черна, очень некрасива, пахла карболкой, а глаза блестели бешеными белками в рассветных сумерках. Звать Шурой Филиной, а кличут Шура ФэДэ – может, слыхал про отца моего когда, может, и слыхал, да вот тебя что-то не припомню. Стал быть, первая ты у меня, только подумал, но по гордости не признался ей Колька.
Ни к кому из соседей Коля не пошел, а куда-то запропал после плача своего на родном пепелище.
Отыскала его случайно вскорости юная и боевая девушка Шурка Артамонова – «доблестный Ворошиловский стрелок», бывшая со своих шестнадцати лет всю оккупацию снайпером у тульских и орловских партизан, старшая дочь Пелагеиной сестры Александры. Девку даже наградили медалью, которую носила она с гордостью по выходным и праздникам, с единственного платья шерстяного не снимая.
Пошла она полоскать на речку к броду Раскатцовскому белье и обнаружила молодого тощего красавца, здорово подзаросшего седой почему-то щетиной, спящим на берегу Роски.
Уснул Коля возле самого «бучала» – огромной бомбовой дыры-воронки, образовавшей посреди узкой речки подобие небольшого круглого прудка, что успел уже за войну зарасти по берегам ивняком. По слухам, засосало это бучало в свое жерло на глубоком дне убитого осколками той бомбы немецкого мотоциклиста прямо с мотоциклом. Мальчишки боялись там летом купаться и нырять, но кто посмелее, видал, вроде, на самом дне, метров в восемь глубиной, в особо солнечный день три немецких буквы на ржавой железной пластинке…
Шура не долго рассматривала Николая – тот проснулся немедленно под чужим взглядом и лежа, сразу схватился за бок, ища, видимо, пистолет, но мгновенно опомнился и как-то затих – девушка усмехнулась и спросила коротко:
«Ай застрелить хотел, малый?» – потом фыркнула и стала спускаться с небольшим тючком мокрого белья на деревянном вальке к плоскому камню на подходе к мелкому броду.
Когда голова ее в выцветшей косынке скрылась под берегом, Коля перекатился и привстал со стоном на ноющее здоровое колено и аж шею вытянул, чтобы наблюдать и далее «чудное виденье». Шура уже по щиколотки зашла в речку, набрызгала ступней воды, чтобы промыть, на плоский белый камень, положила на него валек с бельем. Затем подоткнула юбку под резинки штанов, оголив круглые мощные икры и ляжки – Колька на берегу едва слюной, сразу незнамо откуда набежавшей, не подавился – и прошла еще чуть дальше в воду, наклонившись, стала полоскать тряпки.
Забирала их по одной, пускала сначала свободно плыть, но тут же ловила и сильно бултыхала туда-сюда в воде, прозрачной и холодной еще так, что руки до локтей заметно покраснели.
Лупила глухо, но весело вальком, отчего из тряпок сочилась в речку муть от мелкой стиральной золы, снова споласкивала, а потом разворачивалась к берегу лицом и выжимала белье почти насухо, аккуратно выкладывая его на дерево валька.
…Коля замер и быстро лег опять на бок, боясь обнаружить вставанием жуткую хромоту, когда девушка, подхватив под мышку свою ношу и отпуская юбку из-под резинок на волю, стала выходить на высокий берег.
Там, на чистой и сочной молодой траве, прямо рядом совсем с тем местом, где лежал Коля, она неторопливо встряхнула всё отжатое и расстелила на просушку, глянула молча и будто бы насмешливо синими глазами на парня из-под косынки, потом сняла ее с головы, встряхнула «бараночкой» из двух тонких русых косичек, навзничь прилегла на траву отдохнуть, подложив под голову обе натруженных руки, и прикрыла этой своей старенькой косынкой лицо.
В этот момент Коля вдруг забыл про все свои хромые страхи и соколом вскочил на ноги – какая-то сила подхватила его и будто впрямь понесла по ветру к отрывающимся от земли взбухшими парусами полотенцам.
Опустился над дремлющей девушкой на колени, вдруг увидел два темных пятна под мышками на заметно поношенной голубой ситцевой кофточке, плотно прикрывающей очень высокую грудь, и пахнУло на него никогда не знаемым с младенчества материнским теплом, так, что уткнулся он носом в эту Шуркину грудь и заплакал счастливыми слезами…
Часть 42. Родня деревенская
Как ни странно, на работе Пелагее отпуск предоставили с первых чисел августа 1951 года сразу же и безоговорочно, как только она его неожиданно для себя набравшись смелости и зайдя на второй – небожительский – этаж в профкоме попросила. Полагалось ей за текущий только год отгулять целых 18 рабочих дней – да куда столько, ей бы одну бы недельку, а остальные дни – компенсацией денежной, как и всегда. Да шут с ним, со здоровьем, береженого бог бережет…
И вот свершилось – и билет на Курский вокзал помогли бесплатно почти выписать, за 30 % стоимости – это надо какая радость!
И провожаемая Веркой, с мешком сухарей и фибровым огромным и неподъемным чемоданищем, Полька уселась на свое шикарное плацкартное место сбоку в проходе. Вещи проводник молодой, как глянул на дочь Веру – так шЕментом помог распихать, и все потом отстать никак от девки не мог, аж до самого конца Веркиного провожания, замужем ли она, и если нет, то поедет ли с ним жить в Симферополь – там у них с мамой дом свой с виноградником, бычков заведут, свое хозяйство отдельное наладят…
Тут встряла, наконец, Пелагея:
– Вера, ну иди-иди, нечего тебе ждать, как поезд тронется, иди уже домой! – и не обняла, не поцеловала, а только сморщившись брезгливо – не любила она лизаться! – подставила Верке щечку для поцелуя, и та упорхнула по-быстрому, все чему-то как всегда смеясь, и ручкой помахала под окошком уже с платформы.
Мать взмахнула ей одной рукой, скорее, отгоняя, чем прощаясь, – другой рукой держала она крепко на коленях самую главную сумку с документами и еще одну, тоже очень главную, холщовую, с плотно обернутыми в газеты четырьмя четвертинками «Московской» – для раздачи их строго по одной Санькиным обоим зятьям, а другие две – на погост к мамушке и так самим с сестрой одним посидеть.
На самом дне Полькиного чемодана лежала в тряпки завернутая бутылка коньяка, а в мешок с сухарями спрятала она в куске старой клеенки поллитровку с фиолетовым денатуратом – на заводе его давали машины протирать.
Кто там эту бутылку обнаружит, если вдруг милиция заинтересуется, что баба в поезде везет, кто найдет бутылку-то среди сухарей московских – то есть, на батарее зимой или в духовке летом высушенных бесформенных кусков московского белого и черного хлеба, случайно забытых на ночь на столе или попросту недоеденных, да не самой – Полька грехом большим считала оставлять куски на тарелке и доедала скудную свою пищу всегда до конца, да еще и корочкой тарелку до блеска протирала – так что и мыть не надо было!
А отдавали Пелагее черствый хлеб, но не заплесневелый и не надкусанный – такие корки бросали в отдельный бак для пищевых отходов, пованивающий мощно за кухонной дверью на черной лестнице дома – все соседи по коммуналке.
Выкладывались будущие московские сухарные гостинцы аккуратно на железный лист от духовки, специально выставленный «для деревни» на кухонном огромном подоконнике, служившем Польке разделочным столом.
Самой добросовестной из соседей в этом деле помощи неимущим была Лида Ивановна, мать Галочки-болгарки.
Избалованную худенькую девочку пичкали всякими вкусностями, а она ела очень плохо и мало и всегда оставляла нетронутым свой хлеб – вот соседка Лида тогда обязательно нарежет эти куски меленько, сверху еще солью посыплет и поставит сама все в духовку на Полькином противне – а потом еще горячими выставит сухарики на разбитый мрамор подоконника.
Запах тут пойдет по кухне душистый хлебный, и тогда уж многие любители потчевались втихаря, особенно подружки Веркины, что на кухне курили – все почти слопают, малую горсточку только для блезира оставят, да и ходят хрумкают.
Потом из-под крана водой нальются до краев – вот и сыти на халяву-то!
…Паровоз шел до Черни шибко, обещал проводник, что часов за двенадцать уж точно доедет. И что он мне все чай свой носит, а денег брать не хочет! Полька и так еле терпит, как в уборную хочется, а придется обе сумки с собой забирать, а то не успеешь глазом моргнуть, как обчистят! Народ пошел лихой, ничего не боится после такой-то войны!
В тамбуре была, конечно же, большая уже очередь, да делать-то что! Придется ожидать, пока не лопнешь. Но тут опять этот малый-проводник незаметно так к Пелагее подошел, суму ее холщовую себе на руку перевесил и повел ее в другой конец вагона, а там своим ключом ей дверь, служебную, видать, открыл и с сумкой-то обратно ушел!
Такого счастья Полька давно уж не испытывала, как в той уборной!
Тщательно прощупала в пришитом к изнанке панталон кармане большие – в смысле, размера, а не количества – бумажные деньги, затем пристегнула еще раз для верности булавкой здоровой тот кармашек, ну и в лиф успела слазить – бумажки помельче пересчитать.
Что ж, пришлось ей за чаи-лимоны проводницкие и за отдельный туалет вытащить для него одну из заветных четвертинок.