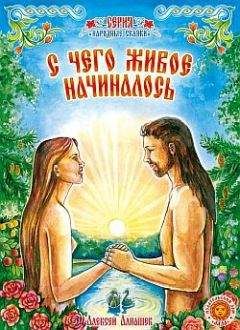Ада Самарка - Мильфьори, или Популярные сказки, адаптированные для современного взрослого чтения
– Сказка будет?
– Тебе так понравились мои сказки? Почитай про Дрезден!
Он кивнул на тумбочку, где стояли, нарядно лоснясь обложками, несколько новых книжек Акунина.
– Тебе мама Акунина принесла… Тоже ничего. А про что сказку?
– Про старый Киев и про войну, – охотно нацарапал муж.
– Ну, – я задумалась, – если не про Великую Отечественную, то могу. Я про войну не умею.
Когда мы ехали в сторону дома со свекровью, я спросила, какая была у него любимая сказка в детстве.
– Как, ты не знаешь? – удивилась свекровь.
– Я спросила, «какая», – ответила я.
– Кхм, – буркнула она и больше со мной не разговаривала.
Сказка шестая. Красная Шапочка
Маняша родилась слабенькой, всего в килограмм весу, белая была, крови мало, не кричала, только тихо стонала, но молоко пила. Несмотря на страшный этот год, тысяча девятьсот тридцать второй, молока имелось в груди ее матери как раз достаточно, чтобы девочка не умерла. Но борьба со смертью оставила свои шрамы на самом уязвимом месте – пострадали глазки. В пять лет Маняша переболела горячкой и совсем ослепла. Один глаз ничего не видел вообще, второй различал неясные пятна, как на размытой акварели: свет, тьму и красное.
У Маняшиной мамы был отрез великолепного китайского шелка. Когда панский дом грабили, то каждый брал, что горазд; их семье досталась ванна из каррарского мрамора с рельефами на античную тему, которую, за неимением более достойного применения, поставили на огороде собирать дождевую воду для полива, и вот этот кусок кроваво-алой ткани. Из него получилось бы прекрасное бальное платье, но ткань поделили на два отреза; один растянули в бывшей синагоге, ставшей Домом колхозника, и написали белой краской: «Рабы – не мы. Мы – не рабы», а другой Маняшина мама оставила себе – повязывала как шаль по праздникам. Но на праздники то время было скупо. Когда дочке исполнилось семь лет, неожиданно заплакала память о былых временах – тогда полагались первое причастие и чай с плюшками, а младенец в молитвах близких становился отроком, – и матери захотелось сделать младшей дочери (а заодно и старшей) хоть какой-то подарок. Она разрезала свой платок на две части, зашив каждую из них наподобие капора. Старшая дочь тут же обменяла подарок на сильно поношенные, но в целом вполне пригодные ботики, а младшая полюбила платок всем сердцем: красный цвет резко выделялся среди бурого жизненного месива и невнятной тьмы. Она водила тканью по переносице, прямо перед глазами, и ткань будто рассказывала ей о тех местах, где была недавно. Таким образом этот уникальный красный для нее обретал как бы трехмерность: пахло от него дымом и дегтем, мелом, мокрым деревом, кислыми щами и жженым сахаром. И был видим.
А ведь сколько искушений семье пришлось преодолеть, чтобы сохранить эту ткань у себя! Решили, что платок ни на что менять не станут, чтобы в нем в гроб ложиться. «Спровадим тебя на тот свет красавицей», – говорил отец матери. Он был тонкой душой, эстетом в некотором роде – при помещике служил подмастерьем у художника, помогал расписывать стены сельской церкви. К нему в былые времена часто обращались «за красотой», и он половине села намалевал незатейливых озерно-лесных пейзажей с лебедями и девками. «А из похоронного стал жизненным, – говорила Маняша, когда они после страды сидели в своем просторном доме за большим столом. – Бывают и жизненные платки?» Старшая сестра ее тоже улыбалась и все не могла отвести взгляд от края стола, из-под которого выглядывали побитые носки ботиков.
Маняшин платок был и впрямь особенным – совсем не выгорал на солнце, не тускнел от стирок, не рвался и не скатывался; на ощупь шероховатость натурального шелка все равно казалась мягкой, и летом приятно холодила, а зимой надежно согревала, и Маняша носила его всегда. Обводя рассеянным взглядом бурые и серые разводы своей или чужой комнаты, где бывала в гостях, или в школе, среди чужих пальто и полушубков, она натыкалась на это великолепно красное, словно вобравшее в себя всю яркость, вытекшую из окружающего мира, и каждый раз улыбалась, как будто замечала родного человека, и шла к нему, вздыхая с улыбкой и протягивая руки.
С младенчества Маняша слыла странной девочкой, немного юродивой, как поговаривали незнающие люди. Дело было в том, что подходила она к собеседнику как-то непрямо, всегда немного из-за угла, и слушала, наклонив голову. Глаза Маняши, зеленовато-голубые, оставались ясными, с виду здоровыми, но как-то косили в сторону, за плечо собеседника, или будто фокусировались на неправильном расстоянии.
За платок, края которого она в холодное время года обматывала вокруг головы, подобно тюрбану, Маняшу в Самсоновке стали звать Красной Шапочкой.
С пригорка, за селом, дорога опускалась через заливные луга к старой электростанции, и там долго можно было наблюдать за тем, как идет Маняша. Другая фигура давно бы слилась с серо-оранжевыми кляксами осеннего пейзажа или была бы проглочена летней зеленой курчавостью, но красный платок горел как огонек и гас, лишь когда Маняша переходила на другой берег, исчезала в колхозных садах или, обогнув электростанцию, шла дальше вниз – невидимая из-за серого здания.
Село Самсоновка, где они жили, находится на левобережной Черкащине, на песках, среди сосновых лесов, на берегу речки, которую называют «норовливой» за ключи и водовороты, хотя по ширине она такая, что с шестом можно перепрыгнуть (чем забавлялась ребятня). Речка в паводки растекалась многочисленными рукавами, затопляя луга и огороды, а летом становилась узкой, в высоких земляных обрывах. С самсоновской речки любили писать этюды многочисленные художники из числа друзей расстрелянного помещика, а затем и постояльцы Дома творчества, открытого тут спустя полвека.
Когда осела пыль Гражданской войны, минуло десять лет, худо-бедно воцарилось мирное течение жизни, пришла какая-то власть, кого-то тихо увозили, кто-то тихо приезжал: молодые агрономы и ветеринары из братских республик, например, – хорошие ребята со странным для местного уха говорком и смуглой кожей. Был в Самсоновке год, что почти каждый месяц играли свадьбы. В Доме колхозника из простыней пошили экран и стали по воскресеньям показывать кино; фильмов было обычно два, и каждый раз их смотрели словно впервые, затаив дыхание, смеясь и роняя слезы. И вдруг начался голод – пришли к Маняше домой люди с пистолетами и погрузили к себе на подводу все овощи из погреба, все зерно из ссыпки, все макитры с залитыми свиным жиром домашними колбасами, всех куриц, гусей, вязанки сушеных грибов и даже все сено с чердака. В волости продолжали требовать плакаты – перед волостным управлением прямо на земле валялись умирающие от голода, а отец Маняши выводил по трафарету буквы и рисовал три бородатых профиля, и красная краска в жестяной банке казалась ему то вишневым сиропом, то украинским борщом на сале. Раз в день все работники волостного управления собирались в зале заседаний, солнечные лучи падали на портрет вождя в зеленой форме, который задумчиво глядел в окно, словно нежась на этом солнце, в руках держал курительную трубку, и усы у него были мягкие и добрые. На стол перед ним ставили ведро вареного картофеля, и эти горячие клубни отец Маняши складывал в карманы пиджака, и, когда бережно вынимал их уже у себя дома, под напряженными взглядами жены и старшей дочки, казалось, что они еще не утратили своего лечебного тепла.
Минуло с тех пор еще девять лет, к двум старым фильмам добавилось еще несколько, даже один заграничный. Что они там говорят, никто не понимал, но женщины шли полюбоваться нарядами, а мужчины, подкручивая усы, закинув ногу на ногу и выдувая папиросный дым, заглядывались на актрис.
Маняша, несмотря на проблемы со зрением, училась в школе, участвовала в самодеятельности – в спектакле «Зимняя сказка», например, исполняла главную роль. Как это бывает у детей, лишившихся одного из органов чувств, у Маняши быстро развилось другое умение – она все запоминала. Роль учили вместе с мамой, на слух. В конце спектакля, одаренная братьями-месяцами, Маняша-падчерица выходила на сцену в своем красном платке. Никакой другой реквизит не воплотил бы в должной мере великолепия и красоты ее нового наряда. Буквы на школьной доске Маняша писала очень красивые: удивительным образом запомнила размашисто-уверенные движения материнской руки, которая будто не писала, а дирижировала. Казалось, что за этими движениями, оставляющими пыльный след на гладкой, в мелких дырочках поверхности отполированного провала черной доски, следит еще целая толпа потусторонних исполнителей и зрителей. С третьего класса Маняша носила на шее бледно-фиолетовый, крашенный черникой галстук, который, конечно, ни в какое сравнение не шел с ее платком, но наделялся не меньшими сакральными свойствами. Старшая сестра к комсомольскому движению относилась прохладнее – говорила, это большая ответственность, для этого нужно созреть морально, а у нее времени нет. Она училась на зоотехника и была совсем не такой, как Маняша. Мама Маняши работала учительницей в недавно открытой сельской школе, отец продолжал ездить на велосипеде в волостной центр, где рисовал агитационные плакаты, а также различные афиши в честь праздников, годовщин, партийных съездов, пятилеток, соцсоревнований и прочая. На закате его художественной карьеры у Маняшиного отца открылось истинное призвание, узкопрофильный талант: Владимир Ильич из-под его кисти выходил каким-то щемяще человечным, добрым печальной мудростью много повидавшего человека, в то же время с намеком на самоиронию и сочувствие, что мастерски достигалось секретными невидимыми штрихами вокруг губ, глаз, лба – словно он вот-вот рассмеется. Заказы на портреты сыпались, множась день ото дня. Маняшин отец даже подумывал об организации художественного комбината или артели по производству портретов, но тут грянула война.