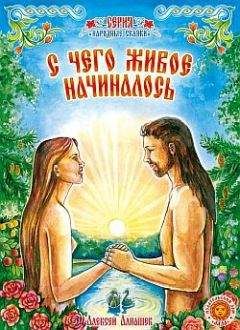Ада Самарка - Мильфьори, или Популярные сказки, адаптированные для современного взрослого чтения
Русланочка села на песок у берега. Звезды качались в такт волнам.
Потом легла.
Яхта проплыла совсем немного и замерла, едва заметно серея – скорее всего, стали на якорь. Было даже слышно, как там играет музыка.
Русланочка сняла платье, путаясь в шифоне и задыхаясь от запаха особенного масла, купленного специально для этого дня. Сложила аккуратно. Отправила эсэмэску: «я люблю тебя, я плыву к тебе» – и нырнула в серебристую рябь.
В это время Димон выходил из гальюна и, пока Инна стояла на палубе, проверил телефон. Прочитав сообщение, раскинулся на диване и, вытянув ногу на столик, крикнул: «Рыбка моя… я жду!»
Что именно случилось с Русланочкой той ночью, никто точно не знает. Ее тело так и не нашли.
Ее одежда лежала на берегу до самого вечера. Спрятанный в одежде телефон пел неубедительным мужским баритоном отчаянные слова о любви, урчал и пиликал, но никто из праздношатающихся пляжников не обращал на него внимания.
«22 года… высший класс…» – написала кремовым атласно-розовым утром Инна, так и не ложившаяся спать, своей подруге.
Морской воздух на рассвете пахнет какой-то бормочущей хмельной тяжестью, и вода под персиково-розовым небом остается тревожно-серой, будто несет под собой укладывающуюся на дно дремлющую ночь.
Глава V«Как он может показать, что узнал меня, когда он подключен к этим всем трубкам, когда он не может шевелиться!» – ругалась я с доктором. Заведующий отделением настаивал на апалическом синдроме. Мой муж лежал в палате, в отвратительных темно-синих спортивных штанах с зелеными вставками, эта униформа всех больных мужского пола, в новых, серо-коричневых носках с раскладки в подземном переходе, в белой майке-алкоголичке. Одутловатое лицо было каким-то неестественно белесым, отечным, припухшие нижние веки делали взгляд мутным и бессмысленным. Ноги были согнуты в коленях и раскинуты в стороны, но уже не так ужасно, как в начале, когда он был голый. Казалось, ноги согнуты так, что он их может разогнуть в любой момент. Бестолковые, непослушные руки, повернутые тыльными сторонами кистей к телу, тоже были согнуты.
«Здоров, дружище, смотрю, мамочка одела тебя…» – сказала я, возвращаясь в палату.
«И тебе привет», – обратилась к лежащему на соседней койке юноше с таким же одуловатым мягкокожим лицом, с редкими курчавыми усиками над толстым ртом. Ему сделали трепанацию черепа и кололи что-то ужасное, когда он начинал выгибаться и орать высоким женским голосом. В остальное время он лежал спокойно, так же как и мой муж, и умиротворенно смотрел перед собой. А морозный полдень чертил посередине комнаты горящую линию из белого золота.
Иногда мне казалось, что муж смотрит на меня, а не мимо, пытается следить взглядом за мной не так, как за обезличенной какой-то фигурой, или как следил бы за силуэтом утки, например, что движется в тире, когда не его очередь стрелять. Открывает рот, чтобы принять ложку каши или бульона не так, как его сосед – все то же, но не так. Как-то мне показалось, что его руки по-особенному дрогнули, когда я вставала, и, доев, он попытался улыбнуться, и глаза его как-то по-доброму сощурились. Он вообще говорил глазами в тот период. Еще он много плакал – часто уголки губ в совершенно незнакомой мне манере ползли вниз.
– Покажи дулю! – грубо говорил врач.
А мой муж начинал плакать.
Я была уверена, что он просто пьяный от лекарств. Ведь сильно выпив, он становился плаксивым и сентиментальным.
– Он не хочет показывать дулю! – рыдала я. – Отстаньте от него! – схватив за перебинтованную голову, обнимала и гладила, защищая. Доктор неловко улыбался и качал головой.
Когда выпал первый снег, мой муж сказал первое слово и очень живо так посмотрел, особым трезвым, хотя и затравленным взглядом, и мы все поняли, что апалического синдрома нет, что он – с нами, он – наш. Но до этого первого снега прошла настоящая вечность.
Очень долго мы все спорили – есть этот синдром у него или нет. Я думала об этом на работе, зависнув над отчетом или стоя у автомата с кофе (ненавижу), когда все уже было готово, и только протяни руку и отойди, а кто-то в очереди за мной начинал вежливо покашливать. Врачи говорили, что он есть, и разводили руками. Точно так они говорили (но я не писала об этом раньше), что он не будет жить, что это все зря, потом они говорили упорно, что он «овощ» и «растение», и я верила им, и смотрела на тополь за окном, и думала, что он – живой, пусть и дерево, и что вид этого дерева действует на меня умиротворяюще.
У них была палата на этаже, я уже потом узнала: туда свозили безнадежных и оставляли там умирать. Они понимали это, не все были как овощи – и громко орали, как дети, чтобы их не бросали. Свекровь продала дачу в черте Киева и тащила деньги пачками, и еще ходила каждый день молиться, носила святую воду, с аудиописьмами приносила ему слушать церковное пение и проповеди. Я бы на его месте тоже быстренько пришла в себя, кстати.
Хотя нельзя смеяться над подобным, нельзя, потому что что-то такое есть, и связь какая-то есть, и Бог есть – для каждого свой, но для всех единый. Потому что, когда свекровь вернулась из очередного паломничества и иконостас на его подоконнике и тумбочке полнился новыми какими-то колбами с живой водой, гербариями, заговоренными ленточками и прочими амулетами – он неожиданно проснулся, как в кино, и я была рядом, поморщился, потому что первое, что ему чувствовалось, когда он приходил в себя – была боль, и сказал: «ой, как больно, б…ь».
Я будто вынырнула в эту реальность, шумно вдохнула, как в первый раз, жмурилась, как от яркого света – всего вдруг стало много – света, шума, воздуха. Пыталась разложить этот миг на кадры, понять, что именно случилось. Потом стала обнимать его, боясь поверить, прыгала, чуть касаясь, возле кровати, и кричала умиротворенному юноше на соседней кровати: «Он с нами! Он сказал! Он сказал!», и смотрела на него, на чудо мое расчудесное, и гладила, и целовала, и полезла почему-то менять ему носки – эти, из перехода, стариковские, в «елочку», ни разу не ступавшие на землю, не знавшие ни пола, ни тапочек, меня страшно раздражали, казались какими-то лузерскими, предвестниками бумажных желтых тапочек, униформой этой нашей стеклянной тюрьмы с замазанными серой краской окнами, и потом, пожав ему каждую стопу, пошла в коридор, звонить свекрови (я всегда выходила, извинившись, из палаты, чтобы поговорить по телефону). «Он сказал «ой, как больно, б…ь!», вы представляете?» И мы плакали вместе с ней… она ответила, смехом, переходящим во всхлипывание: «Да? Он так правда сказал?.. а как он сказал?..» – и потом смеялась.
– Он сказал! Он сказал! Он заговорил! – кричала я, врываясь в ординаторскую. Нашего врача не было, но были другие какие-то.
– Он сказал что? – спросили врачи, как мне казалось, глядя в конец коридора, где была страшная палата и, я точно знаю, забронированное для нас место.
– Вообще-то он сказал «ой, как больно, б…ь..», – сказала я с гордостью и вызовом.
Я выбежала потом на крыльцо, покурить. Боялась вернуться к нему, если честно. Боялась, что отечный жирный язык будет лениво ворочаться, жуя бесполезные звуки, и взгляд будет с умиротворенным сосредоточением рассматривать что-то у меня за плечом.
Но процесс пошел. Он узнал меня, узнал маму, помнил то, что мы говорили ему. Я говорила ему по-английски, и он понимал меня.
Свекровь принесла ему два стеклянных шарика, из отцовской коллекции с пыльного серванта, пахнущие корвалолом и старым табаком – один с голубой стружкой внутри и бежевыми цветочками, второй, чуть меньше – в тонких разноцветных нитках и застывших капельках воздуха. Эти шары ему нужно было перекатывать, чтобы тренировать пальцы.
Поздно ночью я заводила свою машину у бойлерной, и на ветровом стекле лежал пятисантиметровый слой пушистого, сине-серого снега. Я включала дворники, и в пять-шесть махов снег слетал, оставляя тонкую мутную ледяную корочку, которая быстро таяла, трескаясь, пластами в форме Африки сползала куда-то вниз. В салоне машины пахло сыростью, и было как-то глухо, плотно все, как в банке со сметаной.
Говорить ему было трудно, но исключительно по механическим причинам, это признали даже врачи: трубка, стоявшая у него в горле 30 дней, повредила там что-то, и моему мужу быстренько сделали еще одну операцию.
Я держала его за руку девять с половиной часов, пока он выходил из наркоза. Мой приставной стульчик, деревянная ступенечка, как на эшафот, был намного ниже уровня его высокой реанимационной кровати, и рука, которую я держала, свисала вниз, ко мне, и я, как яд от укуса, вытягивала из него, по миллиграмму, муторное болезненное равнодушие. Мне было бы лучше, чтобы ему было больно, чем никик.
Врачи просили тащить из дома все, как-то связанное с его хобби, увлечениями.
Я долго думала над программой. Со словами «хобби, увлечения» у меня ассоциируются почему-то печально невостребованные и чрезвычайно трудоемкие конструкции из подручных материалов, выжженные паяльником панно на лесные и морские темы… ну, то, что можно назвать еще словом «поделки».