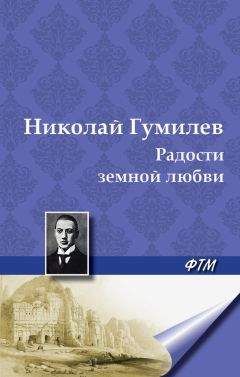Надежда Нелидова - Училка тоже человек
Смех смехом, а последнее Сонино газетное знакомство взяло да и закончилось свадьбой. И какой свадьбой: с метровыми куклами, оседлавшими «мерседесы», с цыганами и икрой, со стелющейся перед молодыми дорожкой из новеньких металлических пяти-и десятирублевиков.
В первое время Соня еще забегала к подружке, плакалась на трудности новорусской жены. То с липовых больничных неделями не вылезала: не пойдешь же на работу вся в засосах – муж оказался человек темпераментный, себя не контролировал в таких («ну сама понимаешь каких, дело молодое») ситуациях. То ухо рвалось под тяжестью бриллиантовой серьги, мужниного подарка.
Татьяна обрабатывала Сонино ухо мазью, ахала, ужасалась сексуальному неистовству мужа, ругала Соню за неосмотрительность. Жаловалась ей на близнецов: не учат упражнений, начали грубить. В последний раз миску с водой, которую Татьяна ставила под струны, чтобы не рассыхались, вылили прямо в клавиши… Соня выслушала, ничего не сказала, но меры приняла: стала приглашать вместо Татьяны знаменитого консерваторского преподавателя.
Шли годы, дружба отмирала, умалялась, усыхала. А братья Мицики, наоборот, зрели, росли ввысь и вширь, наливались соком. Соня давно проживала у мужа в Тверской области в особняке – это летом. Зимой тоже в особняке, но на Кипре. «Однушку» над Татьяниной головой напичкала японскими суперсистемами, там юные Мицики свили себе гнездышко. Все записи были на один дикарский мотив, если это можно назвать мотивом, и звучали на самых низких басах: «Там – тарарам, бух-бух».
Система жила круглосуточно, выключалась лишь на несколько часов днем. Парни вели ночной образ жизни, прямо противоположный Татьяниному. Она уходила на работу в девять, когда утомленные Мицики укладывались баиньки. Наступала тишина: до четырех дня, когда Татьяна возвращалась из школы. Нечего было надеяться на то, что братьев заберут в армию. Их и отмазывать бы не пришлось, Татьяна от дворовых бабулек слышала, что оба состоят на учете у нарколога.
Пока Татьяна боролась со старичками и Мициками, активизировался дядя Петя с сожительницей. Татьяна видела их на улице: оба плюгавенькие, ростиком ее пятиклассникам под мышку. Не поверишь, что это они способны еженощно производить такой тарарам. Просыпаясь в очередной раз, Татьяна сжимала кулачки, голубоватые от нежных венок. Вот если бы это были кувалды, как у Кости Цзю, чтобы зайти в соседний подъезд, ногой распахнуть облезлую, исчерченную тараканьим мелком дверь и изо всех сил двинуть в морду дядю Петю и выглядывающую из-за его плеча сожительницу… А еще лучше завести себе накачанного друга, как Костя Цзю, и самой выглядывать из-за его плеча, как из-за каменной стены.
Друг не просматривался даже в перспективе, и Татьяна снова отправилась в районный пункт охраны правопорядка. Она критически взглянула на участкового: Чебурашка на Костю Цзю явно не тянул. Если бы снимался фильм об участковом, Чебурашка ни в коем случае не служил бы его прототипом. В фильмах участковые ведут с рецидивистом за плотно закрытыми дверями задушевную беседу – и возвращают обществу полноценного члена общества. Просветленный и пристыженный рецидивист возникает в последнем кадре и со слезами на глазах завещает внукам вести законопослушный образ жизни.
Чебурашка, впустив дядю Петю, тоже плотно закрыл дверь. Сел, но дядю Петю сесть не пригласил. Похлопал ладонью по страшной коричневой папочке и сказал совсем не по-киношному: «Ну что, допрыгался, хрен с ушами? Указ 1 января вышел: таких, как ты, нарушителей тишины после 23. 00, выселять без предоставления жилья».
Ночью дядя Петя заплакал. Узенькие мальчиковые плечи его вздрагивали под тяжелым, кисло воняющим одеялом. Дядя Петя мычал, вскрикивал, втискивал лицо в липкую серую подушку. Плакал он от бессилия, от злобы («Фига вам, а не квартира. До Путина дойду…»). Плакал от обиды на жизнь, на сожительницу Полю, на вздорную жиличку за стеной.
Ее небось отец с матерью еще не проектировали, когда он, лучший фрезеровщик на заводе, молодой и кудрявый, вылитый (все говорили) артист Рыбников, первым в бригаде получил вот эту вот самую квартиру, которую у него теперь намеревались («А вот фига вам») отобрать. Это теперь она засалилась, потемнела и съежилась, а тогда казалась ему такой просторной (даже перед ребятами, живущими в бараках, совестно), светлой, будто стеклянный дворец, до щекотки в носу пахнущей краской, известкой, новизной.
Красавица Поля, тогда не помышлявшая, что на весь бабий век к ней пристанет не гордое звание жены, а оскорбительное – сожительницы, весело хлопотала на кухне. Жарила яичницу, мешала в эмалированной миске винегрет, резала селедку, озабочено кричала через стенку: «Петь, третий цех тоже придет? Ящика водки хватит?» Ночью после бурного новоселья, он на цыпочках пошел в ванну, при ярком свете голой электрической лампочки вновь подивился ее кафельной, медицинской белизне, включил кран с горячей водой и стоял, как бедуин у Ниагарского водопада, ждал: когда-то же вода кончится?! Не может быть, чтобы вот так текла и текла.
Утром дядя Петя встретился с боковой жиличкой во дворе, она шла с портфельчиком на трамвайную остановку, он – домой из гаражей. Нес материал: под мышкой – стопу вагонки, в кармане – кулек гвоздей, баночку олифы. Поравнявшись с жиличкой, сказал отрывисто, сурово хмурясь: «Вы это… не сердитесь, Татьян Петровна. Так сказать, обдумал жизнь, готов исправить свое антиобщественное поведение… Если табуретку смастерить либо там ящичек для рассады – вам, так сказать, первой сделаю». Ему показалось, жиличка посмотрела на него уважительно.
Трезвый и положительный, он целую неделю на кухне допоздна работал, даже ночью, не утерпев, вставал и стучал молотком и вжикал пилой. В воскресенье, ложась спать, сказал Поле отрывисто – хмуро: «Погоди, дай время, телевизор справим, кино разные будем смотреть». Поля, как молоденькая, розовела и смеялась. А утром в понедельник в квартиру позвонил участковый. Поманил пальцем и ласково сказал: «Я ведь тебя, жаворонок, пташка ранняя, предупреждал, что мешаешь женщине за стеной жить. Предупреждал или нет? И лицензии у тебя нет, прикрывай к хрену свой ночной кооператив на дому».
Дядя Петя аккуратно прикрыл за ним дверь, заперся в ванной и повесился.
Была такая дикая бесчеловечная средневековая пытка: фиксировали голову несчастного и непрерывно равномерно капали на темя холодной водой. В одну точку. То же самое их бумканье. На что это было похоже? На долбящий череп молоток? На вбиваемый по шляпку в мозг гвоздь? На расплавленные капли олова?… Кап-кап-кап. Бум-бум-бум.
… Открывший дверь наголо стриженный узкоплечий парень был трезв – по крайней мере, от него ничем таким не пахло. Но худые белые, в редких черных волосках кисти рук вздрагивали, подергивались, вели жизнь, отдельную от их обладателя. Рот блаженно улыбался, широко открытые глаза с точками зрачков смотрели и не видели Татьяну. «Вот какие они, наркоманы…»
В дверном проеме нарисовался Мицик Љ 2. Он загораживал собою брата от нескромного взгляда, заботливо задвигал его в грохочущую, сотрясающуюся квартиру. «Немедленно прекращайте вечеринку, третий час ночи, – прокричала Татьяна, морщась от знакомой, толчками нарастающей боли в затылке. – Я… я на вас в суд подам, понятно?» – «Тетка, а ты окружающую действительность адекватно воспринимаешь? А спицу в почку не хочешь? И никаких следов. Импульс тебе придать или своим ходом потопаешь?»
Татьяну взяли за плечи и развернули. И толкнули в спину – придали импульс. За захлопнувшейся дверью забумкало, забухало с утроенной, с удесятеренной силой…
Соня, как ни странно, оказалась у себя в Подмосковье, и сотовый был не отключен. Она была чем-то раздражена и по телефону коротко послала подругу матом: «Оставь мальчиков в покое, психопатка».
А на следующий день Татьянин ключ намертво застрял в замке. Она устала после уроков, страшно проголодалась, так что руки тряслись. Хоть бы чаю горячего попить с хлебом. А ключ ни туда, ни сюда. Татьяна присела на корточки, заглядывала в скважину и тихонько чертыхалась под нос: «Да что ты будешь делать? Вечно со мной что-нибудь происходит». Чай пила у соседки, от нее же и вызвала слесаря. Слесарь в синем сатиновом халатике, таком мятом, что упруго при ходьбе гофрировал на заду, присвистнул: «Замочек придется менять. Эпоксидку залил какой-то паршивец».
Инспектор по участку Љ 124 младший сержант Белянчиков (Чебурашка) считал слово «участковый» производным от слова «участь» и называл свою должность «ассенизатор». И чем дольше работал, тем больше утверждался в правдивости данного сравнения. Насмотрелся он поножовщины, выпущенных, смешанных с грязью и калом кишок, наслушался сквернословящих младенцев, благо в матерных словах отсутствовала буква «р», на которой они пока буксовали. Научился говорить базлающим теткам: «Закрой рот, а то асфальт видно».