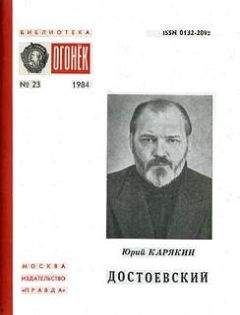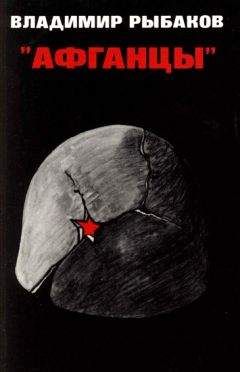Виктор Бычков - Варькино поле
Разделанные свиные, бараньи и говяжьи туши срывали вместе с крюками, забрасывали на спины, уносили в неизвестном направлении.
Обвешанная кольцами домашней колбасы, барская кухарка Фроська Кукса убегала огородами к себе на другой край деревни. За ней гнались горничная и поломойка, вопили, требуя свою долю. Однако счастливица лишь оборачивалась, тыкала товаркам раз за разом фигу, чем ещё больше раззадоривала, подстегивала преследователей.
Из винного погреба выносили водку, вина, коньяки, тут же под деревьями молодого парка устраивались импровизированные попойки. Некоторые, более слабые на питьё, уже в самом погребе не могли встать на ноги, валялись на полу, мешали передвигаться собутыльникам, срыгивали, и сами же в бессилии засыпали, пуская пузыри в собственной блевотине. Иные – затягивали песни.
Чуть в стороне у пруда сошлись в пьяной драке красноармейцы и крестьяне, размахивая и угрожая друг другу винтовками, наганами, саблями, косами и вилами-тройчатками. Однако пока ещё дрались на кулаках, оружие не применяли. Но уже угрожали им, тыкая противнику в грудь то ствол винтовки, то зубья вил-тройчаток.
Многие крестьяне вместе с солдатами срывали в доме с окон и дверных проёмов атласные и бархатные шторы, тут же рвали на куски, наматывали на ноги вместо обмоток и портянок. Излишки заталкивали в уже набитые до отказа сидоры, а то и заматывались ими на голое тело под одежды…
На птичнике, что на задах имения, стоял невообразимый гвалт и шум: ловили гусей, кур, индюков. Помимо птичьего крика, в воздухе висели пух, перья, людские матерки и рёв. Кто-то гнал стайку гусей на свой двор; кто-то откручивал головы птице прямо там же – на птичнике. Те, кому не хватило, силой отбирали добычу у земляков, рвали из рук, разрывали бедных птиц на куски живыми.
Деревенский сапожник Антип Драник уходил крупной рысью с ещё трепыхавшимся в агонии подмышкой обезглавленным гусаком, из разорванной шеи которого цевкой била тёплая кровь. Догонял его со страшным выражением лица и оторванной гусиной головой в руке Филипп Поклад, по кличке Филиппок – подсобный работник на птичнике.
– Отдай, сука! Я, может, его самолично высиживал, вскармливал грудью, можно сказать! Мой гусак! Мой!
– Ты себе ещё высидишь, – задыхаясь от бега, отвечал Антип. – Пусть моих гусей поводит теперь.
– Так он же без головы!
– Ничего! У меня и такой водить станет!
Маленькие, неоперившиеся ещё, гусята и цыплята не успевали увернуться, попадали под ноги обезумевшей толпе, и теперь валялись по всему двору с раздавленными наружу внутренностями. Некоторые ещё трепыхались в агонии…
В хлевах ревмя ревели недоеные и непоеные коровы; молодняк, вырвавшись на свободу, носился по деревне и окрестностям, увеличивая и без того царивший в Дубовке хаос.
Наиболее сообразительные хозяева уже накинули веревки на рога коровам, в спешке вели их на свои дворы, воровато оглядываясь на земляков, которые бросали не двусмысленные взгляды на счастливчиков.
Племенной бык Дурень грозно ревел, пытался противиться бедламу, сзывал животину в стадо, пока не был застрелен двумя выстрелами из винтовки пробегающим мимо бывшим барским пастухом Мишкой Ганичевым.
– Будешь знать, сволочь, – пригрозил Мишка уже мёртвому производителю, пнув бычью тушу лаптем в бок, а потом ещё и плюнул сверху. – Говорил я тебе, бычара, что рассчитаюсь, а ты не верил…
Из амбаров выгребали пшеницу, овёс, ячмень, жито. Загружали телеги и тележки, несли на плечах, засыпали зерно за пазухи, а то и просто волоком тащили тут же насыпанные кули.
Просом брезговали, из вредности рушили сусеки, рассыпали под ноги, и оно скрипело под лаптями крестьян и солдатскими башмаками.
Семя льна тоже выносили, прятали кули под кустами и опять бежали в амбары.
Иные сельчане воровали спрятанное ранее земляками, не утруждая себя насыпать зерно или лазить по барским погребам. Эти бегали по хатам соседей, находили уже утащенное, насыпанное, хватали и спешили домой.
Кто ещё успел до пожара и прибежал раньше всех, те уносили из дома Авериных одежду, обувь, утварь, посуду, постельное бельё, настольные и подвесные лампы, канделябры и мебель.
Федьке Сычу достались диковинные стаканы на длинной ножке. Он нёс их, периодически останавливаясь, доставал из-за пазухи трофеи, трогал заскорузлым ногтем стекло, а потом стоял так, склонив голову на бок, дивился чудесному звону, что исходил от стаканов.
– Быдто колокола церковные гудють, только немножко тише. Зато приятней и краше, итить их в матерь. Впору храм Божий у себя во дворе строить.
Сашка Попов прихватил набор столовых приборов в красивой упаковке, трусцой бежал домой. Перед этим, спрятавшись за барским туалетом, долго изучал содержимое ящика, определял практическое применение приборов. Ложки-ножи сложил обратно в ящик, а вот с вилками возникла проблема. Крутил в руках, щупал на острие металлические зубья столового прибора, а всё же так и не сообразил, где и как их можно применить в хозяйстве. Решил, что неизвестный инструмент – вещь в крестьянском доме не пригодная, выбросил их в туалет, чтобы никому не достались. Одну всё же оставил для жены: прокалывать свиную кишку, когда она будет набивать её рубленым мясом для домашней колбасы. Удобно: пырнёт один раз, и сразу четыре дырки! И сохнуть кольцо колбасы быстрее станет, и воздуха в кишках не останется.
Одна лишь жена барского садовника Маруська Чебакова, женщина лет сорока, не участвовала в этой вакханалии, а бережно прижимала к груди сорванную в красном углу барского дома икону Божьей Матери, то и дело молилась на ходу, осеняя крестным знамением свой лоб, беснующихся сельчан и красноармейцев. Брала на себя все грехи обезумевшей толпы, замаливала их. Но никто не замечал ни этого жеста доброй воли, не внимали её молитвам. Души и сердца односельчан сейчас были заняты прямо противоположным деянием – греховным.
Люди не могли поделить между собой награбленное, сворованное, рвали друг другу волосы, избивали в кровь, дрались за чужое имущество. Всё, что могли поднять, катить, нести – всё тащилось, уносилось с алчным выражением некогда добрых лиц, будто вот-вот наступит конец света, и добытое с барской усадьбы страшным способом добро спасёт этот оголтелый, забывший святое люд. А может, подспудно понимали, что, совершая вот такие неблагодарные, неблаговидные, презренные, аморальные, чуждые христианской морали и нравственности поступки в отношении своих работодателей и благодетелей, в отношении близких им людей они и приближают этот же конец света? Кто знает… Но Дубовка словно сошла с ума, у всех до единого жителя, чувствуя безнаказанность и вседозволенность, вскружились головы. Забыли напрочь всё! Из преисподней людского нутра явились миру самые низменные, самые греховные человеческие пороки. Будто не было тысячелетнего христианского развития Руси, Божьих наказов «не убий, не укради». Проявились вдруг звериные инстинкты, граничащие с потерей контроля над собой, как над существами разумными, мыслящими, православными, крещёными…
А имение горело. Горели овины, амбары, стоящие в отдалении рига и конюшни горели тоже. В одно мгновение исчезало с лица земли то, что строилось, возводилось родом Авериных веками, оставляя после себя кучки золы, пепелища. Вокруг бесновались сельчане, но не тушили пожар, не спасали, а носились, бегали, орали от чего-то, будто племя дикарей, доселе неведомых науке, исполняющих первобытный танец смерти вокруг ритуального кострища…
Лишь обгоревшие, опалённые жарким пламенем деревья поникли, склонив почерневшие кроны в глубоком трауре, да деревенская юродивая девка Полька плакала от чего-то, стоя на коленях посреди сельской улицы, пересыпала между пальцев песок.
На время грабежа о пленниках забыли.
Глава вторая
Комната Вареньки выходила окнами на восток, на Пескариху.
Сегодня она проснулась чуть раньше: ещё с вечера решили с мамой, что с утра пойдут на речку, искупаются. Она страсть как любила ходить купаться с мамой. Каждое лето, если девушка была в Дубовке, всегда ранним утром бежала на омута. Это только на первый взгляд омута на Пескарихе страшны. На самом деле просто там глубокое место, где можно понырять, поплавать. В основном река-то меленькая. Как шутят местные жители: «курица вброд перейдёт». Так оно и есть. А вот омута-а… Да, глубоко. И река там немножко шире. Дно песчаное, твёрдое, и у берега мелко. Это на середине глубоко. Так глубоко, что девушка немножко боится той глубины и старается быстрее вернуться к берегу. А вот мама даже ныряет там, как мальчишка!
Надо успеть, пока это место не заполонила деревенская детвора. Правда, и Серёженька вчера тоже просил взять его. Обещал клятвенно, что на глубину заходить не станет, а будет плескаться у бережка, на песочке.
– А не стыдно будет кавалеру купаться вместе с дамами? – поинтересовалась за столом мама.