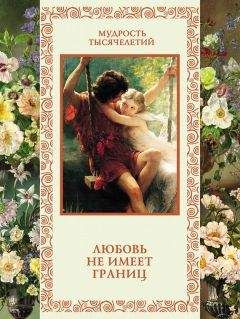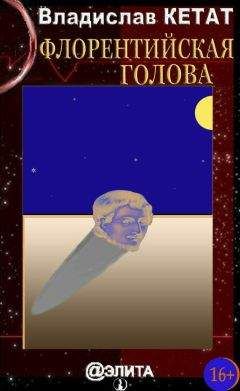Владислав Кетат - Дети иллюзий
После его последней фразы весь зал катается со смеху. Мы с Татьяной хохочем, не сдерживаясь. Это действительно смешно: нести такую бредятину да ещё в таком прикиде.
«Оноре де Босяк» раскланивается по сторонам, отклячив выпирающий между фалдами фантастических размеров зад. Зал грохочет.
– По-моему, он нашёл-таки своё место в русской поэзии, – констатирует Татьяна, – эротико-комические куплеты.
– Да, он рождён, чтобы веселить народ! – кричу я в ответ, поскольку вокруг стоит невероятный гвалт. – Ему можно только позавидовать!
Насладившись произведённым фурором, поэт покидает сцену. На его лице – блаженная улыбка. Следом, на ходу докуривая сигарету, появляется конферансье.
– Ну, а теперь, дамы и господа, вашему драгоценнейшему вниманию предлагается постановка: «Тридцать седьмой апрель или Владимир и Вероника» по пьесе некого Валерия Сурового… который, как мне сказали, сейчас прячется где-то в зале…
Конферансье прикладывает ладонь ко лбу и с прищуром Волка Ларсена всматривается в зал.
– Валерий, где же вы? А-у-у!
Смех в зале… но мне всё равно, я слышу только стук собственного сердца. Оно, словно язык в колокол, молотит о грудину. Бам-м-м-м, бам-м-м-м, Ба-бам-м-м-м… от напряжения потеют ладони, закладывает уши. Татьяна впивается мне в локоть, чем немного приводит меня в чувство.
– Ну, держись, драматург, – шепчет она, – грядёт момент истины…
Выпустив пару пижонских колец дыма в зал, конферансье уходит. Словно в замедленном повторе, раскрывается бордово-красный занавес, обнажая место будущего действия. Включается свет. И вот передо мной открывается сцена – освещённый софитами кусок пространства, над которым на разной высоте подвешены наклеенные на картон изображения совершенно разных предметов – от табуретки до рояля. Это, наверное, и есть те самые изыски, которыми с Татьяниных слов «страдала» Анна в процессе постановки пьесы. Я к репетициям допущен не был, поэтому вижу всё в первый раз.
– С роялем всё понятно, – шепчет мне на ухо Татьяна, – это намёк на футуристическое прошлое главного героя, и на вопрос: «Почему он висит вверх ногами?» следует отвечать: «А чтобы ты, дурак, спросил». С табуреткой, примусом и кастрюлей – тоже. Это быт, о который должна разбиться любовная лодка поэта. Автомобиль и шуба – привет от Лили Брик; пистолет – должен в конце концов выстрелить; огромное красное сердце с начерченной в центре мишенью вообще объяснения не требует.
– Спасибо, что пояснила, – отвечаю я, – сам бы никогда не догадался.
Татьяна недовольно фыркает, и в этот момент на сцене появляется Дон Москито. Весь в белом. Он так же элегантен, как тогда в «Бубновом валете». В качестве дополнительного штриха к образу на его прилизанной чёлке красуется седая прядь, слишком белая, чтобы быть настоящей.
– Они сошлись на бегах, – говорит он, делая изящный жест рукой, в которой, откуда ни возьмись, появляется трость. – Он – огромный и хмурый. Она – молодая и хрупкая. Любовь – убийца на крыльях – кружила над его шляпой. «Пойдёмте со мною», – сказал Владимир. «Куда? – спросила Вероника. – Впрочем, неважно. Идёмте». Они вошли в его комнату в три квадратных сажени влюблёнными, а вышли любовниками.
Когда последний произнесённый Доном Москито звук растворяется в прокуренном воздухе, он делает движение, похожее на вольное исполнение команды «кругом», и лёгкой походкой удаляется в глубину сцены. На его месте из темноты образуется загримированный под Маяковского Че под руку с Анной, одетой по моде двадцатых годов – прямом коротком платье с заниженной талией и шляпке «Клош», натянутой до бровей. Вокруг её шеи обмотаны длиннющие бусы, на свободном запястье болтается ридикюль.
Если Дон Москито был элегантен, то Че – убедителен. Кажется, что вот перед нами стоит сам Владимир Владимирович собственной персоной. Анна тоже хороша. Ей идёт этот стиль, гораздо больше, чем тот, в котором она пребывает в обычной жизни.
Пара проходит в центр сцены и останавливается. Че принимает позу, в которой последние сорок лет на одноимённой площади стоит его бронзовый двойник. Анна, она же Вероника, замирает рядом, чуть прижавшись к поэту слева. Так они и стоят, молча, глядя поверх зрительских голов куда-то вдаль, пока рядом не возникает Дон Москито.
– У Владимира было прошлое, – произносит он. – Женщины. Много. Одной он дал подержать свою душу, и та спрятала её к себе в ридикюль. Потому что была старше. И мудрее.
На сцене появляется женщина небольшого роста, в коротком сером пальто и красной косынке на голове. Из-под косынки выглядывают черные, как смоль волосы, из-под пальто – узкая чёрная юбка; на ногах высокие ботинки на шнуровке, в зубах папироса. Женщина подходит к паре со стороны поэта. На её лице улыбка превосходства.
Женщина кажется мне знакомой, но я никак не могу вспомнить, где её видел. Мешает толстенный слой грима, покрывающий лицо и густые чёрные тени вокруг глаз.
– Тебе она никого не напоминает? – тихо спрашиваю я Татьяну.
– Не-е-ет, – отвечает она, – первый раз в жизни вижу.
Неожиданно, словно чёртик из коробки, между актрисой, изображающей Лилю, и манекенно неподвижным Маяковским, возникает Дон Москито.
– У Вероники было Настоящее, – говорит он, почему-то улыбаясь. – Муж. Который делал вид, что слеп. И глуп. Веронике всё сложнее было убеждать себя и в том и в другом.
Из правой кулисы выходит высокий гражданин с расчёсанными на прямой пробор пшеничными волосами. С хорошо поставленной грустью взирает он на спутницу поэта, а затем, как и все, замирает.
– Яншин, – комментирует Татьяна, – несчастный мужик.
– Угу, – киваю я в ответ.
Дон Москито продолжает:
– У Владимира были слова. Много слов. Он менял их на деньги – советские рубли – на которые потом покупал той, что украла его душу, машины и шубы, а себе время, чтобы придумать слова, которые потом можно будет опять обменять на деньги.
Услышав это, Лиля оживает. Она начинает ходить по сцене и по очереди срывать подвешенные над ней картонки с изображениями предметов, начиная с машины. Как только картонкам становится тесно у неё в руках, к ней подскакивает коротко стриженый мужчина с усами и в старомодных очках.
– Прошу любить и жаловать, – шепчет мне Татьяна, – Осип Меерович Брик собственной персоной.
– Спешу тебе напомнить, – шепчу я в ответ, – что эту пьесу написал я.
Татьяна прыскает в кулачок и легонько похлопывает меня по коленке. Осип Меерович в это время забирает у Лили награбленное и так же торопливо, как и пришёл, исчезает за кулисами.
Послав тому эффектный воздушный поцелуй, Дон Москито подходит к Веронике сзади и легонько обнимает за плечи.
– Ещё у Вероники был Театр, – говорит он с грустью, – место, где врут. Где каждый делает вид, будто он не тот, кто он есть. Веронике нравилось быть не собой. Нет, не так: она любила быть не собой. Очень. Поэтому она любила Театр, а Театр любил её. У Вероники был выбор: человек или каменный сарай со сценой и вешалкой…
Дон Москито делает на сцене эффектное па и оказывается рядом с Че:
– …а у Владимира выбора не было. Людям его ремесла полагается уходить первыми, но они не всегда знают, когда именно. «Что же меня здесь держит?» – спрашивал он себя, когда оставался один в комнате в три квадратных сажени. И каждый раз слышал один и тот же ответ: «Вероника». Он любил её сильнее, чем ту, что украла у него душу. И когда на Москву налетел его тридцать седьмой апрель, Владимир понял, что тянуть дальше некуда.
Раздаётся барабанная дробь, и на сцене гаснет свет. Должно быть, это означает окончание картины.
– Слушай, а ничего так, – слышу я слева мужской голос.
Не успеваю я с облегчением выдохнуть, как с другой стороны доносится:
– Чё-то хрень какая-то…
Татьяна в темноте берёт меня за руку, собираясь таким образом меня успокоить или подбодрить, но без толку – я взвинчен до предела.
Свет на сцене загорается медленно, как осенний рассвет. Теперь действующих лиц всего двое – Лиля и Вероника. Они стоят друг к другу лицом в одинаковых позах – чуть подавшись вперёд и уперев руки в боки. Словно продолжая начатый ранее разговор, Вероника начинает:
– Володя устал! Двадцать лет он штампует строку за строкой… Скажите мне, Лиля, когда ж он… когда же Володя уйдёт на покой?
Лиля в ответ хохочет, запрокинув голову назад.
– Покой? Рассмешили! Аж закололо в бок… Гении не уходят на пенсию! Гении – сразу в гроб!
– Боже мой, в гроб! Ему – тридцать шесть! Известен, талантлив, и денег не счесть!
– Талантлив, не спорю, но дело не в этом. Нельзя до седин называться поэтом! Он вышел в тираж, он лежалый товар!
– Ответите, Лиля, вы мне за базар!
С этими словами Вероника бросается на обидчицу, но у той в руке непонятно откуда появляется шпага. Лихо, будто всю жизнь этим занималась, прочерчивает она ею в воздухе знак Зорро. Вероника отскакивает в сторону, выхватывая (тоже из ниоткуда) здоровенный топор, который, возможно, является не только оружием, но и метафорой (коню понятно, кто здесь старуха).