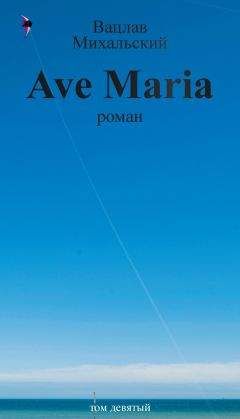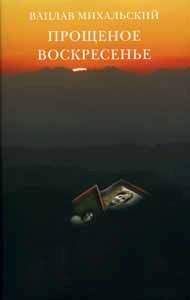Александр Проханов - Крым
– Я сидела тогда у воды и смотрела, как бегают по ней водомерки. Тебя нет и нет, и я закричала. А ты рассердился, что я уток спугнула.
– А помнишь, как мы ночью читали стихи Пушкина: «Встает луна, царица ночи», и взошла луна, и мне захотелось уплыть на лодке в это ночное лунное озеро?
– Помню. Я смотрела на лунную дорожку, сверкающую, в таинственных вспышках, и ждала, когда твоя лодка появится на этом серебре. Загадала, что если появится, то мы проживем вместе счастливую жизнь, и у нас с тобой будут дети.
Ее голос слабо дрогнул, и он испугался этого перебоя. На ее горле вдруг задрожала голубая вена. Он почувствовал, как в ней поднимается волна тревоги и паники. Хотел отвлечь, выхватить ее душу из темной воронки, куда ее вновь засасывало.
– Доктор сказал, что тебе намного лучше. Скоро я заберу тебя отсюда, и мы поедем в Карелию, в наши святые места. Поселимся в том же доме, в той же светелке. И все то же совиное перо на стене, все тот же томик Пушкина на столике, и в сенях стоит бочка с моченой брусникой, а на заборе висит ожерелье из сушеных щучьих голов. Мы будем идти по дороге, которая вся пропахла рыбой, потому что по ней рыбаки возят телеги с уловом. И губы твои будут темные от черники. И подол твоего разноцветного платья потемнеет от воды, когда ты присядешь и станешь пить из лесного ручья, а я буду смотреть, как вода подхватила твой разноцветный подол.
Он заговаривал ее, отвлекал, уносил в чудесное прошлое, где было обожание, бережение друг друга. Но она не давалась, в ней начиналось круженье темных сил, открывался мутный водоворот, утягивал в свою глубину.
– Мы сидели на кровати, на этом пестром лоскутном одеяле. – Вера заговорила торопливо, страстно, словно боялась лишиться дара речи. – Ты посмотрел на меня. Твой взгляд вдруг стал золотым, из твоих глаз брызнули на меня золотые лучи. И я почувствовала, что люблю тебя бесконечно, что ты мой суженый, ненаглядный, послан мне свыше, и нас не разлучат болезни, напасти, сама смерть. Я прижала тебя к себе, чувствовала, что из тебя пролилась раскаленная сила. Я приняла ее в свое лоно, и оно удержало в себе этот жар, эту дивную силу. Я почувствовала миг зачатия. Я носила в себе плод, твой образ, твои золотые лучи. Но ты заставил меня убить его. Как ты меня убеждал, как уговаривал… Как грозил несчастьями, ломал мою волю, топтал мою душу! Я убила его. Его зарезали прямо во мне, рассекли на куски. Его ручки, ножки, его беззащитное тельце. Его вынули из меня, изрезанного, моего беззащитного мальчика. Он теперь приходит ко мне. Его безрукое тельце, его изрезанное лицо. Я слышу его голос: «Мама, мама!» Кидаюсь к нему, а вместо него открывается черная дыра, и из этой дыры дико смотрит твое лицо!
– Вера! Вера! – Лемехов старался ее обнять. – Все не так! Все будет у нас хорошо!
– Оставь меня! Ненавижу!
Он пробовал целовать ее руки:
– Прости меня!
– Уходи! Ты черт, черт!
Она кричала, визжала, била его по лицу. Ее глаза безумно метались, на губах показалась пена. Птица в клетке истошно верещала и билась о железные прутья. Колокольчик со звоном упал на пол.
В комнату вошла санитарка, высокая, мощная. Схватила Веру под мышки, оторвала от пола и понесла. А та визжала, билась в ее могучих объятьях.
Лемехов, потрясенный, смотрел, как розовеет на полу матерчатая тапка.
Глава 28
Лемехов, обезумев, гнал по Москве, не замечая перекрестков, не видя светофоров, порождая вокруг себя вихри визжащих машин. «Я – черт! Я – черт!» – повторял он безумно, и ему казалось, что тело его под рубахой покрывается собачьей шерстью.
Всю жизнь судьба благоволит ему. Он счастливо вписан в потоки жизни, как самолет совершенной конструкции. Эти потоки создают подъемную силу, возносят его все выше и выше. Он – в таинственной гармонии с законами бытия, они способствуют его возвышению. Находясь в согласии с этими законами, он получил знак о своей исключительности, о своей мессианской доле, которая ведет его к божественной цели.
Теперь же оказалось, что всей своей жизнью он попирал эти законы. Своими поступками искажал и искривлял потоки бытия. Разрушал гармонию мира. За что был страшно наказан. Был выброшен из этих потоков. Бытие сбросило его с себя, как непосильную ношу. Он был урод, был грешник, был черт, чье лицо до глаз покрылось звериной шерстью, от которого в ужасе, визжа тормозами, шарахались встречные машины.
Он убил своего нерожденного ребенка, отдал под нож крохотное беззащитное тельце. Заточил жену в сумасшедший дом, чтобы та не докучала ему своими страданиями. Измучил и извел возлюбленную Ольгу, в которой ценил только одно ее прелестное тело, держал подле себя как источник чувственных наслаждений. Многие годы унижал Двулистикова, превратив его в слугу и раба, попирая его гордыню, не замечая в нем чуткую и ранимую личность. Безжалостно унизил и прогнал с работы старейшего инженера Саватеева, не услышав его слезной мольбы. Вероломно изменил своему благодетелю президенту Лабазову, который приблизил его к себе, наградил доверием, поручил громадное государственное дело. И наконец, поддался безумной прелести, возомнил себя Божьим избранником. Вознамерился со своей слабой волей и ограниченным разумом стать вершителем русской истории. Уподобиться великим царям и вождям. И еще он убил медведя, восхитительного лесного зверя, могучее божество, охранявшее леса и озера, черничники и камышовые заросли, земные цветы и небесные звезды. И все это делает его проклятым грешником, извратившим законы и заповеди. Делает его чертом.
Он гнал по Москве, желая разбиться.
Вдруг подумал, что есть человек, способный вернуть его в потоки жизни, отпустить грехи, помолиться за него возвышенной, угодной Богу молитвой. Это Патриарх, которому он уже исповедовался, который благоволил ему, благословил на великие труды. Он встретится с Патриархом, падет ему в ноги. Тот накроет его золотой епитрахилью, и этот чудесный покров заслонит его от жестокой тьмы.
Лемехов повернул машину и помчался в Переделкино, в резиденцию Патриарха.
Ворота в резиденцию были закрыты, и над ними, подобно райским цветам, возносились купола и шатры, голубые, алые, золотые, в лучистых звездах, будто само небо осыпало ими чертог Патриарха.
Лемехов представился охраннику, указал на свою высокую должность, утаив правду о своем увольнении. Охранник просматривал списки, не находя в них Лемехова.
– Нету вас. Не значитесь.
– Да мне без ваших дурацких списков, по срочному делу!
– Не значитесь.
Лемехов звонил в протокольный отдел Патриархии, в канцелярию, в приемную Патриарха. Но все телефоны молчали, словно номер Лемехова был внесен в черный перечень, и с ним не выходили на связь. Внезапно железная калитка отворилась, и к Лемехову вышел высокий суровый монах, с черной гривой, яростно торчащей бородой и огненными, гневными глазами. Лемехов узнал в нем отца Серафима, келейника Патриарха.
– Мне передали, что вы пришли. Что вам угодно?
– Какое счастье, что я вас вижу!.. Телефоны молчат, протокол, канцелярия!.. Понимаю, иерархи, много дел, много видных владык!.. Патриарх – государственник!.. Если смута, и все предадут, и все распадется, он один во главе государства!.. Гермоген или Никон!.. Он великий подвижник!..
Лемехов волновался, чувствуя на себе пылающий взгляд монаха. Купола цвели и дышали, отделенные от Лемехова железными вратами, и он хотел, чтобы врата растворились и его пропустили в рай. Но перед ним стоял грозный посланец, сжигал его огненным взором.
– Мне нужно пасть в ноги, и он исповедует!.. Только святейший!.. Я заблуждался, грешил!.. Он отпустит мой грех, и я искуплю!.. Моя жена, моя бедная Вера!.. Ей уже лучше!.. Мы уедем в Карелию, в ту же избу!.. Чудесное озеро, гагара над крышей!.. Вере там будет спокойно!.. И снова, как в юности, в наше райское время!..
Купола в небесах расцветали, как клумба райского сада. Он слышал благоухание, ангельское нежное пение. Стремился туда, в этот райский сад, где добрый садовник примет его, обнимет, прижмет к груди, поведет по дивным аллеям, и больше не будет страданий.
– Мне нужно к святейшему!.. Он исповедует!.. Ужасная тяжесть греха!..
– Замолчите! – оборвал его отец Серафим. – Святейший вас не может принять. Вы нанесли тяжкий урон его репутации. Вы едва не поссорили его с президентом. Вы вкрались к нему в доверие, пригласили на свой крамольный съезд, где собрались заговорщики. Святейший, в своей наивной доверчивости, пришел на ваш совет нечестивых. Ступайте и больше не появляйтесь! Вы враг православной церкви, одержимы сатанинской гордыней. Вас нужно предать анафеме!
Монах повернулся и исчез за железной калиткой. Врата в рай оставались закрытыми. Лемехов уходил, и ему казалось, что его изгнали из рая и кто-то гневный, с пылающими глазами, летит за ним следом, поливая из ковша смолой.
«Но нет, – думал он, – святейший – не есть святейший, ибо он не святой. Он не святой, и оттого совсем не святейший. Он человек из костей и плоти. Из плоти и костей человек. Есть тот, кто выше его, кто сияет над ним. Тот, кто сияет над ним и выше его. И к нему принесу я мои грехи и паду к ногам. Паду к ногам и сложу перед ним грехи. И буду прощен!»