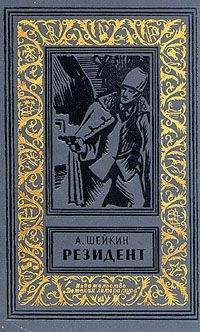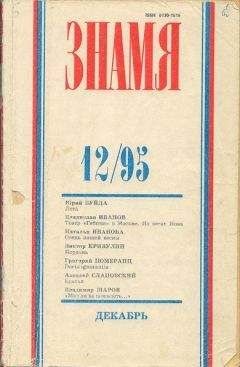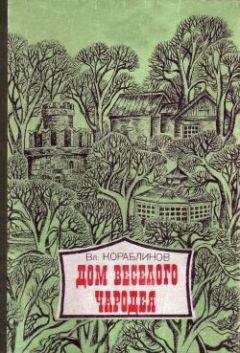Владимир Шаров - Воскрешение Лазаря
Здесь корень практического осуществления идеи. Почему они отказываются от того, что так прекрасно, почему не хотят принимать, почему не меняют зло на добро, не дети ли они неразумные и не твой ли долг – долг учителя – взять их за руку и вывести на правильную дорогу?
Нет ничего опаснее учительства, вел он дальше, увлекаясь и уже не замечая, что его слова больше походят на обвинение, чем на панегирик: отец не отвечает за сына, сын за отца, но учитель отвечает за учеников. Откажись от учительства; неправда, что если ты знаешь нечто хорошее и не научил, не передал – это грех. Если ты учитель, тебе нужна власть. Власть усиливает действенность уроков, и ты должен хотеть, чтобы ее было много, ты должен любить и хотеть ею пользоваться.
Страшное дело – отказ от прошлого, на всей или почти всей жизни ставится крест, то, что было в ней, объявляется ложью, злом и отсекается, жизнь человека рвется по живому, и выйти из этого здоровым невозможно. Восторг обретенной правды хоть и может подавить, дать забыть прошлое, но ведь сзади – пустота, провал. И еще: в рождении не из материнской утробы, а из идеи – все искусственное, и мир, который создают в себе и вокруг себя люди, переписавшие свою жизнь, сумевшие в середине пути подвести итог и вынести приговор – такой же искусственный. Новый мир отлично приспособлен к переделкам, его просто конструировать, он мобилен, но те, кому трудно отказаться от прошлого, в него никак не вписываются: он быстр и они не успевают за ним.
Другой разговор. Толстой, говорил Халюпин, был очень хороший человек: он боролся против смертной казни, мечтал о нравственном самосовершенствовании, мечтал о том, чтобы здесь, на земле, было, как хотел Христос. Ради этого он готов был отказаться от своего и не только от своего прошлого, и тем, кто был с ним рядом, кто любил его, он поломал жизнь.
Я и сам, Аня, знаю, что многие годы семья Толстого жила очень тяжело, что начиная с восьмидесятых годов он и Берг расходились дальше и дальше и вместе с женой от него уходили дети, кроме разве одной дочери, а место их занимали ученики. Я знаю, что он долго искал примирения с семьей, когда же увидел, что оно невозможно, понял, что все, что он делает и говорит, лишь продолжает их разводить, бежал из Ясной Поляны. Через десять дней он умер в доме начальника железнодорожной станции Астапово, который подобрал его на перроне.
«В его бегстве из старой жизни, – говорил Халюпин, – в полном разрыве с ней и скорой гибели трудно не увидеть прообраз происшедшего с Россией спустя семь лет». Еще рельефнее другое сходство: Россия предреволюционных лет во всех отношениях была страной учеников, а не детей. Когда-то Господь перед тем, как вывести евреев из Египта, сделал так, что женщины рожали по шесть-семь детей за раз, но это были дети, обычные дети. «Размножение учениками», конечно, не природный, но поразительно быстрый способ размножения людей. Изобретен он не Богом, а человеком, и с настоящим, природным находится в не знающей компромиссов вражде, в вечной, ни с чем не сравнимой ревности. Те же иудеи и христиане.
Быстрота размножения учениками манила революционеров. Она одна давала надежду сразу, буквально в мгновение ока утвердить мир, в котором все-все будет по-другому. Похоже, и Толстой предвидел, что из его учеников может произрасти зло. Своей жене Софье Берг он говорил, что ученики – те же дети, только воспитанные без материнского тепла, ущербные. Много лет он буквально молил ее, чтобы она обращалась с ними, будто они их общие дети, вернее, еще нежнее, еще внимательнее, как обращаются с больными или сиротами.
Кстати, по словам Коли, Халюпин утверждал, что Чертковым и его свитой Толстой был фактически похищен из Ясной Поляны. Он говорил, что это похищение растянулось почти на тридцать лет и лишь в последние годы, неправдоподобно ускорившись, убило Толстого. Обычно, говорил он Коле, ученики похищают учителя после его смерти – Толстого же похитили живым. Он умер из-за учеников, но бежал он к ним, и правыми в итоге оказались тоже они. Подобно многим учителям, Толстой – жертва учеников, но породил их он сам.
На этом, Анечка, хочу пока завершить разговор о людях, которые были близки Коле, и вернуться к письму, отправленному им в Томск Феогносту, о котором прежде обещал тебе рассказать. В подлиннике оно не сохранилось, однако породило столько событий, что реконструировать его несложно. Это Колино письмо было последним, больше он никогда Феогносту не писал, хотя Ната с Катей переписывались и дальше, правда, писали реже и не регулярно. Письмо содержало настоящий вызов на судебный поединок, «поле», сделанный грамотно, со всеми принятыми формальностями. Цель «поля», как в свое время и у Каина с Авелем, – дать возможность Господу самому решить, чья жертва Ему более угодна.
К поединку Коля шел долго, но не исключаю и того, что идея «поля» принадлежала не ему, а Спирину. Доказательств второго у меня нет, кроме разве что следующего: события, которые сопровождали поединок, вне всяких сомнений, требовали серьезной подготовки, и она, что очевидно, была проделана, причем очень и очень тщательно. Значит, Спирин заранее, чуть ли не за три-четыре месяца до вызова, о нем уже знал. Вот я и думаю, что идея была его, а дальше он, как и с Владивостоком, сумел внушить ее Коле. Кстати, похоже, что Коля, несмотря на все страсти по поводу Девы Марии, в истории с вызовом уклонялся до последнего.
Оба они, и Феогност, и Коля, отчаянно боялись повторить Каина с Авелем; Спирин же их, словно детей, осторожно за ручку к этому вел. Но здесь они его переиграли. Каждый из них твердо знал, что брат не должен погибнуть от его руки. И Господь им помог. Он еще с Каином был устрашен ревностью человека в вере, его готовностью пойти даже на смертоубийство, лишь бы угодить Богу. Господь не желал ни такой веры, ни таких жертв, в итоге поединок закончился без крови. Во всяком случае без крови братьев.
В том, что тогда, в тридцать втором году, произошло в стране, мне многое понятно, а многое нет; сама увидишь – вопросов бездна. Хотя общие контуры ясны. Жертва Феогноста – его православие, верность истинной вере в Создателя всего сущего, его отказ от любых компромиссов с богоненавистной антихристовой властью, его мученичество – бесконечные тюремные и лагерные сроки, наконец, уход в юродство, туда, где только и могла уцелеть вера. Думаю, что любой из нас сочтет возложенное им на алтарь тельцом без изъяна. Немудрено, что перед поединком, по свидетельству разных людей, и в первую очередь Кати, Феогност чувствовал себя уверенно, не сомневался, что Господь предпочтет именно его жертву.
Но основания верить в победу имел и Коля. Год за годом он не жалел ничего, чтобы разделенных, расколотых, ненавидящих друг друга людей вновь собрать в народ. Ради этого он ушел из дома, ушел от Наты, которую безумно любил. Словом, и он посвятил себя Богу, и он ни о ком, кроме Бога, не думал и не помнил. Он знал, что пока Господу не вернут его избранный народ, о спасении нечего и мечтать.
Да, когда Дева Мария, предваряя Христа, сошла на землю, Коля и помогавшие ему чекисты, если бы им удалось ее разыскать, не остановились бы ни перед чем, только бы заставить Христа прийти на землю. Но ведь он действовал бескорыстно, делал все это потому, что считал: необходимо показать высшей силе, что творится в России. До какого одичания дошел даже избранный народ Божий – что уж говорить об остальных.
Казалось бы, Феогност сделал добро, спас Деву Марию, не допустил над ней насилия, на которое Коля бы, без сомнения, решился. А что в итоге? Зло длится и длится, конца ему нет. Ясно, что из Феогностова добра не вышло ничего, кроме новых бед и нового горя. Коля его предупреждал. Вот те первины, что были возложены им на алтарь, и Коля верил, что Господь, честно разобравшись, что к чему, не только признает его правоту, не только отдаст ему победу, но и сразу после их с Феогностом поединка сойдет на землю, к своему народу.
Теперь, Анечка, о Спирине. И Коля, и Феогност не сомневались, что схватка идет между ними двумя, а Спирин, хоть сейчас он и живет с Натой – это так, стоит любому из них пальцем поманить, она бросит бедного чекиста и больше никогда его не вспомнит. Спирина то, что он в тени, конечно, устраивало, долгое время он вел себя, будто и впрямь ни в чем не заинтересован, нейтрален – нечто вроде беспартийного арбитра, на которого обе стороны равно могут положиться. На самом деле ради Наты Спирин был готов на все.
Что же до Наты с Катей, то я, Анечка, больше и больше склоняюсь к твоей версии. В схватке братьев и чекиста Ната отнюдь не была лишь трофеем – Коля, Феогност и Спирин сражаются за нее, а она, сидя на лавочке, кротко ждет, кому достанется. Все чаще и я думаю, что балом правила именно Ната, и дрова, которые они наломали, – а дров было немало – в конечном счете за них отвечает она.
Ната и Катя двоюродные сестры, но схожего в них немного. Катя с детства брала слабых, брала из жалости и любила тоже из жалости. То есть она додавала тем, кому было недодано, людей же, у которых всего вдосталь, не замечала. Ни они в ней не нуждались, ни она в них. Другое дело – Ната. Нате подавай не сильного, а сильнейшего из сильных, победителя. Лишь он ей ровня, лишь с ним она чувствует, что живет, а не милостыню подает. Но время им обеим досталось смутное. Если бы как в песне поется: «Кто был никем, тот станет всем» – здесь Ната еще разобралась бы. Беда в другом. Сегодня ты король, а завтра под утро, когда сон самый сладкий, за тобой черный воронок приехал. И дальше ты настолько никто, что тебя даже не похоронишь по-человечески. Я, Аня, передаю суть многих Натиных разговоров со Спириным, она их не однажды излагала в письмах к Кате. Иногда прямо в виде диалога.