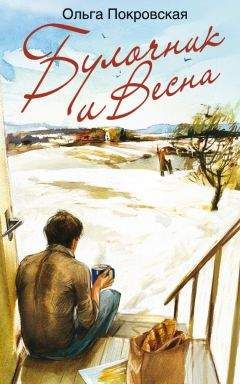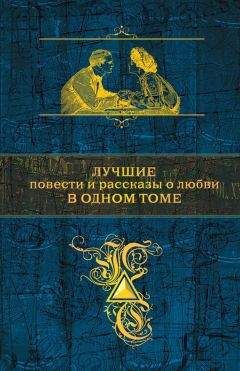Ольга Покровская - Рад, почти счастлив…
На берегу Иван привязал лодку, чудом вспомнив, забрал у вахтёра мобильный и пошёл по протоптанной вдоль канала весенней тропке – в город.
Во дворе дома он встретил консьержку из своего подъезда. У неё была большая беда – на прошлой неделе она поскользнулась на мокром полу и сломала руку. Зато была и радость – внучка собралась замуж, и парень хороший, заканчивает институт, работает.
Иван выслушал её со вниманием, охотно принимая лекарство случайного разговора, и домой вернулся спокойный, любовно лёгкий.
Дома он вынул из холодильника апельсины, яблоки и к пробуждению мамы «надымил» в соковыжималке мутного оранжево-зелёного сока. В кофеварку засыпал кофе. Что ещё полагается к завтраку? Овсянка, подсушенный хлеб. «Вот так, – думал он с удовольствием, – овсянка и кофе везут на себе жизнь, как душу везёт тело». Иван накрыл всё, что может остынуть, и отправился к дверям маминой спальни, пошуметь чем-нибудь, чтобы она проснулась.– Мне приснился чудесный сон! – сказала мама, перемещаясь из комнаты в ванную. – Вот только что буквально – я с ним проснулась. Над садом встаёт такое рыже-зелёное облако апельсинового аромата, такое весёлое, родное, и я в нём!
– Это я сок нам выжимал, – растолковал её сон Иван и, подождав, пока мама выключит воду, сказал. – А я сегодня был на реке. Плавал на лодке… – он хотел рассказать маме о встрече с Женей, но передумал и сказал о другом. – Видел там на пристани парня… – произнёс он, встав на пороге ванной и глядя в зеркало на занятую макияжем маму. – Он возился со своей яхточкой. И я вдруг сразу как-то понял Андрея. Вот он рвётся себя исполнить, как ему на роду написано. А я что с ним сделать хочу? Какое море, какая ещё любовь – быстро к родителям, и на ночь – две строчки! Это всё равно, как если бы я захотел, чтобы в пьесе, например, «Три сестры» все до одного актёры вышли на сцену Тузенбахами. Очень стыдно.
– Ну а чего же стыдно? Раскаялся – молодец! – произнесла Ольга Николаевна, подмахивая ресницы. – Ты бы сделал мне крепкий кофе. А то я сплю.
– Уже есть тебе кофе! – с улыбкой объявил Иван. – А ещё знаешь, с кем встретился? – всё-таки не сдержался он. – У нас не река, а какой-то Невский. Плыву, а мне навстречу Женя на катере. Ну, Костин Женька. Стал меня стыдить – почему я сам не спасаю мир, и Костю не пускаю. А что я могу сделать, мама? Я не верю в большие дела! Мне кажется, все они… как это сказать? – «от лукавого» что ли. Вот в тунеядство моё я верю! – продолжал он, улыбаясь от души. – Верю в лес, в огород, верю даже в строительство зимнего дома – надо только отклониться от тунеядства и чего-нибудь подзаработать.
На кухне, у окна, он сложил руки биноклем и, прицелившись, различил на вымытом асфальте улицы розовый фантик. Затем медленно поднял «бинокль» и посмотрел вперёд и вдаль.
– Ну что, видно что-нибудь? – поинтересовалась мама, садясь за накрытый стол.
– Ещё бы! – сказал Иван.
Над неровным забором домов, небольшую полоску заняв у неба, светло зеленели тополя, их сменяла дымчатая синева туч.
Он любовался и думал, что мирным взглядом в окно, безо всяких международных усилий, можно будет однажды спасти всех больных, потушить пожары и войны, унять отчаяние.* * *И он повеселел снова. Лето, ещё не вступив в права, издали поддерживало его. В дачной зелени Иван надеялся отмыться ото всех неясностей и больше не прикасаться ни к чему, что лежит за пределом главных жизненных обязательств. Никаких институтов, Жень, Маш, Фолькеров. «Ну а как не прикасаться? – тут же подумал он. – Что, и Костю выгнать?» Выгнать Костю было нельзя, он входил в Главное. А значит и всё, что он притащит с собой, придётся пустить в дом. И всё-таки, Иван решил крепко положиться на лето.
В последние дни апреля, с лёгкой душой отпустив персонал на майские праздники, он поехал на дачу. Шины хрустели по лужам, затянутым утренней льдинкой. Родственники остались дома. Дедушка рвался присмотреть за работой внука, но его удержали, и Иван приступил к стройке один.
Он начал с того, что вытащил раскладушку, настелил курток, чтоб над студёной землёй не мёрзла спина, и пролежал под небом до обеда. Птицы пели над ним лучшие песни земли, и ни у одного из соседей не заводили музыки.
А потом за забором протрубил грузовик – привезли заказанные накануне материалы. Пришлось подниматься и объявлять сезон строительных работ открытым.
«Что же они такие длинные! Хоть бы в половину!» – негодовал Иван, таская на плече прогибающиеся доски, и до вечера еле успел всё разместить под навесом.
В тот день, не считая дневного блаженства под небом, было ещё много такого, ради чего стоило жить долго. Иван позвонил своим и обрадовал дедушку докладом о качестве доставленной вагонки, вроде бы неплохом. Затем он ужинал на крыльце – лицом к лицу со звёздами, и на сон грядущий, без малейшей запинки сложил четыре строфы в честь Двадцать девятого апреля.
На следующий день он проснулся от стрельнувшего в комнату солнца, умылся, живо передвинул мебель и безо всякого завтрака приступил к разрушению старого. С удовольствием Иван обдирал обои, и целые стенды давнишних газет открывались ему. Он ими зачитывался. Под газетами обнаружилась фанера в ржавых потёках вокруг гвоздей. Когда он снял её, из стен посыпалась труха старого утеплителя.
Пока Иван отдирал, подметал и мыл, прошёл день. А там настал следующий. На доски следовало закрепить утеплитель, взятый с офисного склада, и уже сверху обшить вагонкой. За кочевым костром холодной ночью Иван определял фронт работ на следующий день и чуть не плакал над своей черепашьей скоростью. Ему хотелось сделать скорее. Постепенно спешка его переросла во вдохновение. Иван раздвинул края рабочего дня и трудился над комнатой, как над главой романа, добиваясь от стен незримого очарования, какое сразу почувствуют и мама, и бабушка. Вскоре, правда, он догадался, что очарование зримо и кроется в подборе рисунка досок.
Изредка распрямляясь от работы, Иван смотрел в окно на синюю даль холмов. В последние годы он стал опасаться, как бы красоту не растащили на коттеджные посёлки. Хотелось самому, первым, купить эти холмы и дать им вольную.
Работа на воздухе, с инструментами и доской, меняла его. Он стал внутренне лёгким, сильным. Тёплые городские привычки сами собой отпали. Иван больше не накрывал красиво стол, а ел кое-как – на крыльце, на коленях. Забыл, что по утрам надо пить кофе, и совершенно перестал волноваться, порядок ли на кухне и в спальне.
За работой он не скучал. Близкий лес читал ему вслух свои стихи. Иван их понимал и задумывался даже о переложении на русский. В перерывах между работой он заходил в лес, как в душ, – смыть жар труда, и всегда возвращался с добычей. Достаточно было сорвать всего одну еловую хвоинку или одну ивовую пушинку, чтобы стать обладателем целого, звучного лесного аромата. У него в кармане набралось вдоволь подобного сора. А однажды он выпутал из еловых лап длинную берёзовую прядь. Это была тонкая и гибкая ветвь без листьев, около полутора метров в длину, с бордовой кожицей в крапинку. Видно, ветер её сорвал в ту пору, когда ещё не набухли почки. Иван взял эту нежную ветку, и почувствовал растерянность – как если бы он держал смычок от удивительного инструмента, но не знал, где найти то, на чём им можно сыграть.
Лес с первой зеленью умиротворяюще действовал на него, был при нём, как большой спокойный друг. И вдруг, в одну ночь, всё встало с ног на голову.
Однажды за поздним ужином на крыльце Иван прислушался к звону леса и понял, что готовится праздник. Ему сделалось любопытно. Он вышел к опушке и на десять шагов окунулся в рощу. Чёрное пространство вокруг него сверкало звуками. Иван понял, что попал на таинство, не предназначенное для ушей и глаз человека. Но, может быть, майский лес позволит ему постоять на пороге?
Он остался под сенью берёз и елей, оглушённый многоголосьем. Только гулкий бэк-вокал кукушки был отчётлив, остальное сошлось в единый вспыхивающий узор.
Внезапно ему захотелось примазаться к славе оркестра. Он свистнул – вышло не слишком ловко. Подлаживаясь, посвистал еще, и, забыв о времени, весь ушёл в подражание. Наконец, Ивану почудилось, что талантливый коллектив принял его. Ободрённый, он отозвался на соловьиную реплику. Ещё на одну – и опомнился. Но чувство причастности лесному оркестру осталось.
Несколько ночей Иван спал, словно через прозрачный тюль, донимаемый лесными ариями, и только тем сумел пересилить майское буйство леса, что перебрался из восточной, «лесной» мансарды в западную – «огородную».
Чтобы окончательно справиться с соловьями, он нашёл себе книгу и читал её в постели, пока сон не сваливал его. Это было «Слово о полку Игореве» – брошюрка советских времён из серии «Классики и современники», сразу распавшаяся по страницам.Так, между природой, книгой и молотком, Иван провёл почти две недели. Причём, отдал работе так непривычно много себя, что почувствовал: душа стала от физического труда, как ветка с прочной кожей, которую не так-то запросто теперь и поранишь, тем более, сдерёшь.
Он бы остался ещё. Но в одном из обычных утренних созвонов с родными, мама обронила полуобиженно: