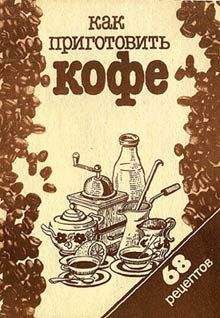Владимир Шапко - Парус (сборник)
А Катюшка в это время преспокойно шла себе по закраине Рыжухи в сторону от деревни. Снег круговертью кидало на тонкий гладкий лёд, узко завязывало на промокшем извилистом краю закраины, вышвыривало белыми кострами на открытую вялую воду, где он сразу сгорал. Поджариваемая чёрным холодом, шипела шуга.
Одета Катюшка, считай, по-зимнему: в тёплое пальтишко, длинную юбку, платок шерстяной, варежки вязаные. На ногах вот только – стоптанные и закривелые сапожки́. И, похоже, они у неё промокли – да что за беда! – зато остальное-то всё по-зимнему. И санки железные везёт за собой чин по чину: как же, зима уже, снег…
Катюшка останавливается и топает сапожками по льду – во все стороны испуганно разбегаются белые трещинки. Идёт дальше. Снова останавливается и топает – трещинки ещё пуще бегут. Смотрит. Думает. Опять топочет… Потом стоит и, словно целиком охватывая сознанием речку, слушает и смотрит на неё, наклонив голову набок и покручивая ею. Речка завораживает, зовёт льстиво, властно тянет. Девчушке хочется подойти поближе и потрогать шипящие, пахнущие холодом белые лепёхи, но что-то удерживает её… Она толкнула санки. Храбрыми лебедями полетели санки к воде, но там споткнулись и исчезли, нарисовав спокойный круг, который проехал немного по реке и растаял. Катюшка застыла растерянно… «Санки сплятались!» – радостно «догадывается» трёхлетний ребёнок и с замирающим сердчишком, удерживая смех, продвигается сапожками, крадётся к краю ледка, чтобы заглянуть за этот край и сразу, радостно крича, побежать назад и застукать эти хитрющие санки. Боязливо-угрожающе затрещал лёд. Катюшка останавливается и поворачивает голову назад. По пологому, заснеженному берегу в её сторону бежит какая-то тётенька. Она почему-то раздетая и как конь высоко вскидывает ноги в здоровенных пимах. Катюшка узнает мать. «Вот смесная!»
Маруся подлетела к берегу – лицо белое, глаза выкатываются, – но в последний миг опомнилась, заметалась у воды, руки ломала, изо всех сил стараясь говорить спокойно, просила: «Катюша, дочка, иди сюда, иди… ну скорей!.. я… я… тятя тама… иди… я тебе… я чё-то… доченька!..»
Недоверчиво, исподлобья смотрит Катюшка на мать: чего это с ней? Потом, не торопясь, треща льдом, идёт к берегу.
Маруся не выдержала, кинулась, провалилась по пояс, подхватила Катюшку, на берег ринулась, и хлопала, хлопала по тощей заднюшке, и плакала, и целовала. Выбежала наверх, прижала к груди насупившуюся дочурку и помчалась к деревне, скуля, клацая зубами, как волчица…
А вечером опять бесконечно-радостно сидели возле дочурки за столом Алексей и Маруся, и старая Григорьевна, как с ворчливым кадилом поп, ходила с бормотанием своим, оберегала всё, свет лампы запрятывая словно в углы комнаты…
Но недолго теплилось счастье в оконцах маленькой избёнки. Через полгода загасли они, зачернели, и мимо мёртвого на берегу подворья всё так же только бежала, ночами плакала Рыжуха-река…
Через деревню в то пасмурное апрельское утро двигался отряд колчаковцев. Голов в триста. Проходили спешно, походным порядком, не останавливаясь. Комбедчики все разбежались: огородами стелились, кто перемахал Рыжуху на лодке, кто в окрестные лески. Алексей тоже было вскинулся… да стыдно стало. Бегать-то, как зайцу. Ладил хмуро борону на дворе. На дорогу, на проходящую колонну не глядел.
Богатей Атишев шепнул. Ко двору направился офицер. С ним пятеро. Отшвырнутая от плетня жердина ворот убито запрокинулась… Молчком, пинками погнали со двора. Повели. Мотая уже дулами у земли, щелкая затворами. Верно, хотели за углом…
Маруся кинулась, закричала. Её пнули. Она снова. Один отпрянул, маханул шашкой – и закинулась головой Маруся, и спало безвольное тело на землю… Алексей бросился к ней, сшиб на пути одного, другого. Напоролся на штык, поставленный маленьким колчаковцем. Подламываясь ногами, руки тянул. Точно пытался ухватить за горло этого недомерка-колчачишку. Колчачишка беспокоился, трясся свислыми щёчками, никак не мог освободиться от Алексея… И Григорьевна откуда-то поспешно выковыляла, и с руками и глазами до неба… Стрельнули ей – сковырнулась старуха, упала себе под ноги…
А на улице, на бугорке остался стоять ребёнок. В пальтишке, с большими от испуга глазами…
Уходила с угора колонна. На повороте теснясь в очередь – как в землю лезла. Недомерок-колчачишка бежал вслед, бросал, подхватывал колотящегося петушка с оторванной башкой…
Через дорогу перешёл соседский мужик. Подхватил ребёнка на руки. Прижал, отвернул от всего, что произошло. Понёс через дорогу к своему дому.
Полтора месяца прожила Катюшка у этого одинокого молчаливого мужика по фамилии Зотов. Потом приехала старшая Марусина сестра, Аграфена, поплакала на могилках, поблагодарила Зотова, в Предгорную увезла к себе племянницу.
Около двух лет Катюшка не говорила. Аграфена и муж её с болью ждали. Жалели, пестовали. (Свои дети у них, двое, выросли. Жили и работали в городе. Взрослые.) Но ребёнок молчал.
Аграфена не выдерживала:
– Да что ж ты молчишь-то, Катюшенька! Что ж ты молчишь-то!..
В бессилии кидала руки по ребёнку, причитала:
– Ох, да не будет у тебя счастья, ох, да не будет… Катюшень-ка-а ты моя-я…
Муж за столом хмурился:
– Не каркай!.. – Блуждал взглядом: – Пройдёт…
Аграфена пугалась своих слов, под грудью у себя судорожно гладила напряжённую головку:
– Ничо, ничо, наладится, даст бог, наладится…
Глаза её боялись, стражденько мучились.
– Ничо, ничо… – всё запрятывала она ребёнка в себя. Чтоб не видел он, забыл…
Но летними догорающими вечерами выходила Катюшка за околицу к одинокому тополю. Садилась на траву и, уперев в колени подбородок, подолгу смотрела за Иртыш, вдаль. Может, думала она тогда, что в той стороне родное её село, где остались тятя с маманей. А может, Иртыш вдали походил на речку Рыжуху, у закатного солнца расплетающую на ночь свою рыжую косу.
10Из коридорчика перед тамбуром, держась за поручень под окном, смотрели Катя и Митька на обширный, нескончаемый хоровод больших озёр и вертящихся плоско бочажинок. Перемахивая через камышовые островки и кочки, вровень с несущимся поездом бежало, щекоталось в воде закатное солнце… Бескрайняя озёрная Барабинская степь…
После большой станции «Барабинск» наутро, едва поезд тронулся – навстречу движения, словно требовательно и бдительно пропуская поезд через себя, из дальнего конца вагона сдёрнулась и медленно пошла песня:
Шысна-адыцать р-ранений хирург на-ащитал,
Дыве пули-и засе-е-ли-и глубока-а-а,
А о-он всё в бреду напевал, э-напевал-л:
«Э-раскинулось э-моря-а широка-а-а!..»
Шаря по проходу вагона железной клюкой, продвигался слепой мужчина, ведомый мальчишкой лет десяти. Проходя закутка три, мальчишка останавливался, поворачивал слепого лицом к людям. Слепой сразу обрывал песню, бабье лицо его искажалось, и он приблатнённой слезливой фистулой кричал:
– Бр-ратишки, сестр-рёнки! Пап-паши и мам-маши! Обращается к вам инвал-лид войны! Пом-можем несчастному кто чем может! – И выталкивал вперёд мальчишку с сумой. Люди торопливо и щедро подавали. И едой, и деньгами. Слепой благодарил, клал руку мальчишке на плечо, шарился клюкой дальше.
Возле Катиного закутка тоже остановились, и слепой уже начал было выкрикивать своё обращение, но Катя кинулась к нему, стала совать в руки жареную дикую утку, купленную десять минут назад на станции. Хлеб, пучки редиски. Слепой как-то испуганно отпрянул, стал недовольно отмахивать её руки. К мальчишке. Но Катя с какой-то щенячьей мольбой, молчком, совала и совала всё это ему, ему в руки…
– Чего стоишь? Возьми! – коротко цеданул слепой. Мальчишка выхватил утку, сунул в суму. Принимал хлеб, редиску. А слепой уже быстро, тряско ощупывал Катины плечи, грудь и, лихорадясь, бормотал: – Спасибо, спасибо, сестричка! Спасибо, спасибо!..
Катя умоляюще пятилась, и так же быстро бегала пальцами по рукам слепого, чтобы остановились они, остановились, наконец, и в то же время втягивала, втягивала их за собой. Вскочил Панкрат Никитич:
– Садись, садись, сынок! Сюда, вот сюда! Отдохни…
Слепой сел. Но будто всё ещё трясся за Катей. Провёл рукой по лицу – как наваждение снял. Сказал, наконец:
– Ну, ладно, коль люди добрые… Поедим да отдохнём маленько. Генка, давай суму!
Утку слепой ел жадно. Но видно было: не от голода, а больше – от привычного чревоугодия. Любил, видать, мужик поесть. Он вгрызался, рвал мясо, толстые щёки его медно лоснились. Иногда зачем-то подолгу держал утку на выползшем из-под рубахи животе. Точно пальцами прослушивал. Снова накидывался.
– Ты б дал малому-то… Чего ж один-то… – с ласковой укоризной попенял ему Панкрат Никитич,