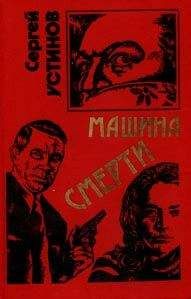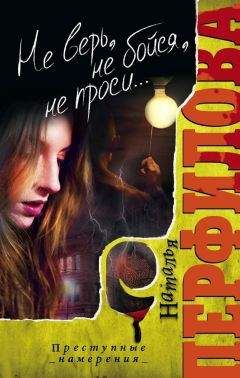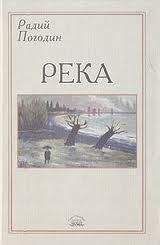Александр Филиппов - Не верь, не бойся, не проси… Записки надзирателя (сборник)
Задумавшись, Самохин ткнулся в спины остановившихся неожиданно впереди «чекистов». Пришли. Перед камерой, где содержался Жуков, расположились так, как наметил Рубцов. Майор достал из-за голенища сапога ключ, аккуратно, стараясь не лязгать металлом, вставил в замочную скважину, повернул. В тишине продола язычок замка оглушительно щелкнул. Рубцов резко потянул стальную дверь на себя, и она тоже пронзительно и ржаво заскрежетала петлями.
– За кем, братаны? – спросил тревожно приглушенный и гулкий, как из колодца, голос «вышака» в соседней камере.
– Кажись, за Витьком! Жуковым! – ответили ему с другого конца продола.
Когда дверь распахнулась, Жуков, облаченный в полосатую робу смертника, вскочил с кровати, заученным жестом заложил руки за спину и шагнул к стене, в сторону от стремительно вошедших в камеру офицеров.
– Здравия желаю, граждане начальники! – внятно произнес он, понуро глядя в цементный пол.
– Не спишь? – добродушно поинтересовался Рубцов, подойдя вплотную к «вышаку» и беря его за плечо, а потом добавил вполголоса: – Пора. Собирайся.
– Да я уж того… готов, – пожал плечами Жуков, оглядев обступивших его со всех сторон тюремщиков. – Как чуял, что вы сегодня придете.
– Руки давай. Вытяни вперед… Вот так! – скомандовал Сиверцев и ловко защелкнул на худых, непропорционально длинных руках заключенного сияющие стальные браслеты.
– Не дергайся, не ори, и все будет путем! – предупредил вполголоса Рубцов и ободряюще хлопнул Жукова по плечу. – Где твои шмотки?
Заключенный мотнул головой в сторону кровати. Там на полу стоял тощий вещевой мешок, завязанный у горловины на бантик черной тесемкой.
– Забирай, – разрешил Рубцов, и Жуков поднял скованными руками скорбный свой узелок, прижал к груди.
– Все? – деловито поинтересовался майор.
– Зубную щетку, вон там, на раковине забыл… – шепнул зэк.
– Кариес тебе не грозит, обойдешься, – съехидничал Варавин и тут же осекся, натолкнувшись на гневный взгляд Рубцова.
– На, забирай, – сказал майор, подавая зэку зубную щетку. – Куда тебе ее положить? Давай помогу…
Рубцов взял из рук Жукова мешок, размотал тесемку на горловине, бросил туда Щетку, опять ловко завязал, вернул «сидор» заключенному.
– Теперь все?
– Книги еще, гражданин майор. Казенные. На столике вон лежат. Проследите, чтоб утром в библиотеку отнесли. А то притырит еще кто-нибудь, а библиотекарша на меня подумает. Неудобно получится…
– Книги я сдам, – пообещал Рубцов. – Все, выходим. Ты, Жуков, будь мужиком, не шуми, не прощайся ни с кем. Не положено!
– Да я ж понимаю, – шмыгнул носом «вышак», – с кем прощаться-то? С кентами, что на этом продоле сидят, так и так скоро свидимся… На том свете.
Из камеры вышли чинно. Рубцов и Самохин придерживали с двух сторон Жукова за скованные руки, впереди шли Варавин и Сиверцев, сзади в затылок дышали молчаливые сосредоточенные солдаты. Спустились в подвал, где конвой, уже принявший на себя ответственность за «вышака», приступил к обыску.
С Жукова сняли наручники, раздели догола, после, чего «чекисты» тщательно прощупали все швы полосатой робы, вывернули карманы, вытряхнули на стол содержимое вещмешка. Капитан Сиверцев осмотрел каждую бывшую там вещь, кое-что брезгливо отбросил в сторону. Самохин разглядел, что среди предметов, которые отверг начальник конвоя, оказались новые домашние тапочки, потрепанный блокнот, пара школьных тетрадей, авторучка, несколько запасных стержней с разноцветной пастой, картонная баночка зубного порошка и зубная щетка, та самая, которую разрешил прихватить Рубцов. Туда же последовал снятый с шеи приговоренного нательный крестик.
– Не положено, – коротко произнес Сиверцев и небрежно смахнул горку вещей со стола в мусорный бак
– Что ж крестик-то? – сердобольно заметил пристально наблюдавший за обыском Самохин. – Пусть бы уж оставался. Сейчас религиозную атрибутику разрешили…
Начальник конвоя скептически посмотрел на майора, объяснил снисходительно:
– Один такой паренек на этапе крестик свой заточил как бритву и «чекиста» по сонной артерии им чиркнул. Солдат от кровотечения умер. Вот вам и атрибутика! А это – можно, – указал на оставшееся капитан.
На столе жалкой стопочкой лежали застиранные синие когда-то, а теперь белесые от едкого хозяйственного мыла трусы, вылинявшая майка, пара носок, кисет с махоркой, которую один из солдат предварительно рассыпал на листе бумаги и внимательно осмотрел по крупицам, коробка спичек и несколько газетных обрывков – на самокрутки.
– Иди ко мне! – скомандовал смертнику капитан. – Руки вверх! Так, открой рот. Повернись. Присядь. Нагнись. Порядок. Одевайся!
На Жукове опять защелкнули наручники, заведя на этот раз руки назад, за спину, сунули ему в кулак совсем уж отощавший узелок и повели наверх, в кабинет ДПНСИ. Там капитан расписался в какой-то бумажке, принял от Рубцова и передал на хранение одному из конвойных «чекистов» запечатанный сургучом пакет – личное дело приговоренного к высшей мере наказания.
Когда Жукова погрузили в темное нутро «воронка»-автозака и спецконвой под визг открываемых ворот КПП выехал за переделы изолятора, Самохин вспомнил вдруг, что привлекло его внимание в коридоре, когда выводили смертника. Расположенная на этом же продоле камера, где сидел Кречетов, была пуста. Догадаться об этом можно было по тому, что двери временно пустующих камер всегда держали открытыми, чтобы не путаться при подсчете свободных мест.
– Слушай, а где этот… ну, бизнесмен из сто четырнадцатой хаты? В санчасть положили, что ли? – осторожно поинтересовался майор у Рубцова.
– Зачем в санчасть? – удивился тот. – У него ранка небольшая, ссадина да шишка на голове. Йодом прижгли, и все…
– Так в камере-то его нет!
– А-а… – замялся Рубцов, – ты, наверное, на вышке сидел, когда Сергеев позволил. Я доложил ему о случившемся. И начальник СИЗО дал команду перевести Кречетова в двухсотую камеру. Я так подозреваю, что с подачи опера нашего, Скляра. Он лично за этой хатой присматривает.
– А Кречетова-то туда зачем? – допытывался Самохин.
– За надом! – раздраженно буркнул Рубцов. – Ты ж бывший «кум», понимать должен! В оперативную разработку его взяли…
Двухсотая камера были знаменитой на весь изолятор «пресс-хатой».
9
Самохин так и не сдружился с местными «кумовьями». В отличие от колонийских опера в следственном изоляторе выглядели вальяжными, преисполненными чувства собственной значимости. Свысока посматривали на прочих сотрудников, а когда их изредка направляли в помощь задерганным, замурзанным от постоянных «шмонов» режимникам для проведения прогулок, обысков, подчеркнуто сачковали, боясь замарать камерной грязью отутюженные рубашки и брюки, выказывая брезгливость и презрение к черновой тюремной работе. И, потоптавшись с полчаса рядом с «группой здоровья», неизменно исчезали, сославшись на неотложные сверхсекретные дела. Когда на утреннем разводе кто-нибудь из режимников возмущался, жалуясь на «белую кость» начальнику следственного изолятора, Сергеев лишь разводил руками, озабоченно бормоча что-то про особые задачи оперативников, а Рубцов кривился, демонстративно сторонясь «кумовьев»-чистоплюев.
Вскоре Самохин понял, что такое, особняком, положение местной оперчасти исходило из отличных от колонийских «кумотделов» задач, стоящих перед их коллегами здесь, в СИЗО. Зэки приходили в места лишения свободы, будучи уже осужденными за совершенное преступление, и администрации исправительно-трудового учреждения оставалось только следить, чтобы они «как положено» отсидели определенный им срок. В следственном изоляторе сотрудники оперчасти обязаны были, кроме прочего, способствовать раскрытию преступления, помогать расследованию, что в корне меняло отношение к заключенным. Это и обусловливало обилие «стукачей», «подсадных уток» в СИЗО, а также существование «пресс-хат» – камер, где с помощью специально подобранных зэков ломали и «кололи» подследственных, выбивая из них нужные для суда показания по уголовному делу.
Опера СИЗО и сами порой брались за эту работу, часами, попеременно, допрашивая того или иного арестованного, и в случае успеха получали от руководства денежные премии, награды и внеочередные звания.
В следственном изоляторе, где дубинка гуляла испокон веков и озлобленные режимники щедро, налево и направо, раздавали шлепки зэками, оперативников, занимавшихся вроде бы на первый взгляд тем же, откровенно не любили. Потому что режимники наказывали все-таки за конкретный проступок, совершенный уже здесь, в стенах изолятора. Нарушая правила содержания, заключенные сознавали грозящие им за это неприятности, были готовы к ним, а потому жалоб на жестокое обращение тюремщиков в адрес прокурора обычно в таких случаях не поступало.