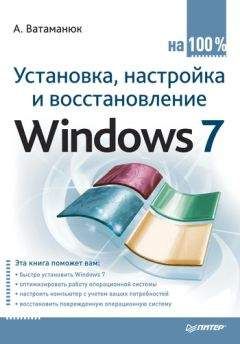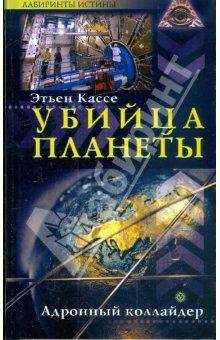Елена Крюкова - Царские врата
Она вздохнула и сказала вслух:
– Где же живешь Ты, Господи?
И никто на пустынной улице ее не услышал.
Только сама она услышала себя.Пришла домой. Стащила с мертвых ног мертвую обувь. Долго мыла мертвые руки. Села на мертвый диван, он пропел ей пружинную мертвую песню. Ивана дома не было. Подняла голову: показалось, кто-то глядит на нее.
– А кто живой?
Усмехнулась мертвыми губами.
ВИДЕНИЕ АЛЕНЫ НА ЛИТУРГИИОн встал во весь рост передо мной.
В медовом, мятном мареве, нагарном, ладанном сумраке храма.
Он сам пришел – я не звала.
Стоял передо мной, не с иконы сошел, а живой пришел.
В той холстине, в которой ходил, когда жил, в сандалиях на босу ногу.
Слегка поблескивала смуглая щека, загорелый на южном солнце, чуть горбатый нос.
«У Него нос как у Рената. Точно!»
Стоял и улыбался. На меня смотрел.
Я оглянулась.
Видит ли в церкви Его кто-нибудь, кроме меня? Может быть, и видит.
Сердце сорвалось с ниток, на которых держалось, сигануло, ухнуло вниз, в ноги, в пятки.
«Я вижу Тебя!» – хотела я крикнуть. И не могла.
– Значит, Ты не умер и все правда, – беззвучно сказала я.
Он услышал. Улыбнулся яснее, шире.
Ясные, насквозь просвеченные солнцем, свечами, огнем, любовью глаза были у Него.
– Я молюсь Тебе по-настоящему, – шепнула я радостно.
Он наклонил голову.
Я вдохнула пахнущий елеем, нагаром и ладаном теплый, сладкий воздух.
Он шагнул ближе.
Я видела, как под грубой холстиной степного, пустынного плаща бьется сердце Его. Приблизила голову. Склонила лицо. Почуяла запах, такой тонкий, нежнейший, пьяный, радостный. Как от цветка в заречных лугах.
Ветер трепал холщовый плащ. Откуда в храме ветер? А, все равно.
Он здесь. И я перед Ним.
Я ниже наклонила голову, лицо мое приблизилось к Его груди, и губы мои коснулись Его сердца – там, где билась, зимним заиндевелым крылом голубя, зернистая, льняная, серая ткань.
И я почувствовала ожог на волосах, на затылке.
Это затылка моего коснулись Его горячие губы.…глаза снова стали видеть.
…оглянулась.
…смотрела, смотрела на меня во все глаза закутанная в черный платок старуха-прихожанка: с кем я говорю, с Невидимым?А хор в церкви взлетел звуками к куполу, воспел, взыграл весь, неистово, мощно и светло, опьяняюще, и я стояла, как пьяная, пьяная от любви, безумная, и слушала это, ликующее:
– Хвалите имя Господне, хвалите, раби Господа, аллилуия!
Голос отца Максима прорезал солнечный хор:
– Слава Тебе, показавшему нам свет!
И, подняв глаза, встретившись глазами своими грешными с Его радостными живыми глазами, летящими навстречу мне с ночной и золотой иконы, я смело сказала Ему:
– Я люблю Тебя, Господи. Я – люблю – Тебя.
ДЕВОЧКА, ТЫ ЧЬЯ?Однажды шла по улице. Тяжелые сумки в руках несла. Капусту, картошку, лук, баклажаны. Овощи она умела готовить. Жаль, сушь, неурожай грибов, в лес с корзинкой не съездить, грибочков Ванечке не пожарить.
Просто жили. Заготавливали крупы, Алена покупала тушенку; варила с тушенкой каши из всяких круп – гречневой, рисовой, ячменной – солдатский суп кондер. Когда кондер варила – Чечню вспоминала; странно улыбалась, над кастрюлей стоя.
«Да, тот котел. Те миски, с хлебовом. Горячий пар над котлом. Речь чеченская, турецкая, английская, русская. Каша из языков, наречий. Кондер наемный. И над едой – тряслись. Потому что не знали, когда поедим в следующий раз».
Осенние листья под ноги, как щенята, совались.
«И я опаду. С ветки сорвусь. Куда полечу? Что об этом думать».
Дня не проходило, чтобы она не думала о смерти.
«Неужели меня не будет? Никогда? А где же буду? Что-то ты, мать, там, на войне, об этом меньше помышляла, чем сейчас».
Смерть являлась ей на перекрестке, где подвыпивший лихач сбивал девочку-подростка, беспечно едущую на велосипеде; на рынке, где бритые юные парни избивали цепями и дубинками восточных торговцев, и те в ужасе разбегались, побросав овощи-фрукты, и чугунная цепь все-таки настигала маленькую горбоносую торговочку – может быть, чеченку, может, грузинку, а может, осетинку, а может, седую узбечку, что курагой торговала, и убили ее лишь из-за того, что она другой масти была и в другого Бога верила; в переполненном автобусе, где пацан, голодный волчонок, сунул кондукторше, визжащей: «Ты!.. Почему билет не берешь, а ну из салона выметайся!..» – нож под ребро; в распахнутой настежь соседской двери, откуда перед нею выносили обитый голубым атласом гроб, а в гробу лежал девяностолетний ветеран, дядя Саша Антипов, с лицом строгим и светлым; и везде являлась ей она, и Алена понимала: жизнь состоит из смерти, куда ни кинь, как ни крути.
Она тяжело, грузно присела на лавку. Поставила сумки наземь.
– В жизни есть только смерть, – сказала она себе вслух. – Надо смириться. Надо…
Что надо, не успела подумать. К ее ногам, коленям из сгущенья палых листьев и осеннего золотого воздуха подбежала девочка. Со светлыми, золотыми как листья косичками. «Какая золотая. А я перед ней такая черная. Жизнью прокопченная».
– Девочка, ты чья? – как можно веселее спросила Алена.
– Ничья! Ничья! – Она бешено, быстро прыгала на одной ножке. – Неправда! Неправда! Папина!
– Вот как, – улыбнулась Алена. – А почему не мамина? А папина только?
– А мама у меня умерла, я с папой живу! – вскричала девочка радостно, будто выкрикнула стих на празднике, и, в последний раз подпрыгнув перед Аленой, послала ей смешной воздушный поцелуй и убежала.
«Умерла. И здесь смерть. Где же жизнь?»
«А она везде. Она и есть смерть».
«Что же тогда смерть?»
Алена на миг замерла.
Поразилась своему – себе – ответу.
«Смерть – это жизнь».
«Какая?»
«Узнаем».
Алена зло подхватила сумки с земли. Встала. Пошла.
Что мы узнаем! Да ничего. Все уходят. Никто не вернулся.
Она шла, сумки оттягивали вниз руки. Покачнулась. Чуть не упала.
Дядька с двумя бутылками сухого вина в карманах грязного пиджака оглянулся на Алену и беззубо, беззлобно бросил ей вслед:
– Эх, бабенка, с гулянки, как и я, што ли?.. Накачалась, вижу… Эх, веселье наше! И пить будем, и гулять будем… а как смерть придет, помирать будем!
С пьяным, длинным вздохом дальше побрел.
«Вот бы кто меня сфотографировал сейчас. Из моих девчонок и мальчишек, с которыми я в училище училась. Сумасшедшую старую тетку. С овощами. Отличный кадр. Я б сама за таким – к экзамену – по улицам погонялась».
Остановилась, опустила поклажу на землю. Вытерла потное лицо. Под ладонями, в темноте, скрыла от прохожих, от суеты и сутолоки жизни то ли улыбку, то ли рыдание.
АЛЕНА ПРОВОЖАЕТ ЛЮДЕЙВечером в дверь Алениной квартиры застучали.
– Аленушка… умерла наша Агарюшка, а-а-а-а…
– Не плачь, Никитична. Пойдем.
«Как у евреев-то, не знаю?.. Но по-русски – обмыть покойницу надо». Алена поднимала на руки мертвое тело, обмывая его холодной водой из таза, водя мокрой тряпкой по голым рукам, обвисшим ногам и большому животу соседки Агари Марковны. Пришла еврейская родня, что-то священное читали из огромной книги в кожаном переплете, разрывали у себя на груди одежду. Алена чисто убрала нищую квартирку Агари Марковны, полы вымыла, пыль вытерла. Цветы пошла купила, вазы не было, в трехлитровую банку поставила: как живой Агари, вроде бы у нее сегодня день рожденья. Родня сказала Алене за все: «Спасибо», – и дали ей в благодарность вареное яйцо.
Алена и на похороны Марковны пошла, и до самого еврейского кладбища ее провожала; и на поминках тоже посидела. Пришли двое друзей юности Агари. Пили, плакали, вспоминали войну с немцами. «Вот, раньше война была – народ знал, за что воевал, – Алена выпила рюмку водки, настоянной на травах, домашнее изделие Агариной родни, – Родину защищал. А за что мы воевали… там?»
Водка загудела в голове, тепло стало ногам. Алена запоздало, светло и легко заплакала. На столе догорала свеча. Догорела. Быстрые руки зажгли еще одну. «Нельзя огню гаснуть. Неделю свеча гореть должна». Бородатый щекастый раввин из синагоги, реб Липа, козопас, обнял Алену за плечи и заплакал вместе с ней.Алена узнавала, где умер человек в ее округе; и направлялась в тот дом.
Приходила; ее никто не знал, но помощь не отвергал. «Вам заплатить надо?» – спрашивали ее. «Не надо. Я от чистого сердца». Кто-то ей верил. Кто-то не верил. Но в дом пускали.
Если это был русский дом – она обмывала покойника. Потом садилась к изголовью и читала Псалтырь. Она знала, что над умершим читают Псалтырь, но не знала, какие псалмы; старухи ей подсказывали номера псалмов и кафизм. Она читала и видела юного мальчика в царской короне, с арфой в руках, и горбатого старика с алым шелковым тюрбаном на голове. Мальчик пел псалом в один голос с ней. Она поднимала от Псалтыри глаза, глядела в ночную тьму, пронизанную светом погребальной свечи. Мальчик и старик исчезали.
«Если люди приходят из прошлого – значит, связь времен есть».