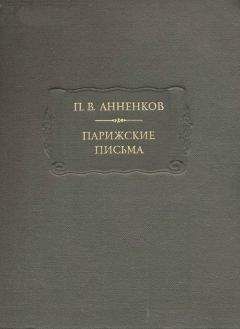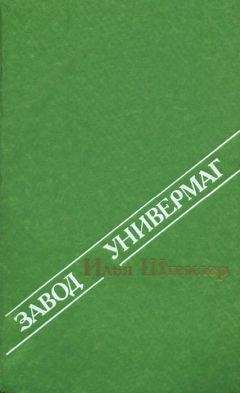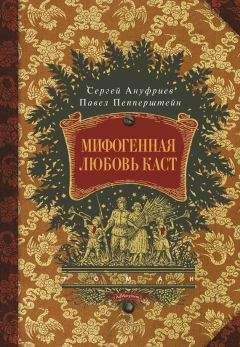Захар Прилепин - Грех (сборник)
– Наглец! – высоким голосом воскликнул братик, тем самым вернув оставленного спутника из временного небытия.
Я даже успел увидеть его голые, замечательно кривые, непоправимо волосатые ноги в крепких ботинках и разноцветную короткую юбку, венчающую эту красоту, когда братик, широко раскрыв дверь, вошёл в общежитие.
Спустя минуту он поспешно вернулся, и вослед ему со шваброю выбежала вахтёрша.
– Поганая ты погань! – кричала она. – Бесстыжие глаза твои! Рожу хоть бы побрил свою разбойную! И целуются ещё у входа! Педерасты!
Нам пришлось уйти.
– Мать моя, как они ходят в юбках, – ругался братик. – Яйца сводит от холода.
– Это ж у тебя яйца, – предположил я. – А у них нет.
Рубчик по-прежнему стоял у стены.
– Что там? – спросили сверху у нас девичьи голоса.
– Сказали, что у вас не бывает бородатых студенток, – отозвался братик, озираясь по сторонам.
– Слушай, – сказал он мне. – Я вроде лесенку видел тут неподалёку. Пойдём-ка.
Лесенка действительно была обнаружена и бережно доставлена под вожделённые окна. Но хватило её только до второго, или чуть выше, этажа.
Братик двинулся вверх первым, я держал готовую рассыпаться лестницу. На последней ступеньке он встал и воздел руки.
Приветливые наши подруги сбросили ему две скрученные в жгуты тряпки, братик вцепился в них и, подтягиваемый вверх, скребя ногами по стене, ввалился таки в окно.
Засунув самогонный пузырь за пазуху, я привёл под лестницу Рубчика. Трижды повторил ему, каким образом он попадёт в тёплую общагу, к своей страстной красотке, объевшейся собачатины.
– Понял? – ещё раз спросил я.
– Понял, – эхом повторил Рубчик. Потом раскрыл глаза, и на мгновение мне показалось, что он всё-таки протрезвел.
Я полез вверх, братик высунулся навстречу, мы вцепились друг в друга, как навек разлучаемые, и вот уже мне улыбались розовые, пьяные, успевшие подкраситься бодрыми мазками девичьи лица.
– Рубчик! – позвал братик в окно. – Рубило!
– Иду, – сипло отозвался Рубчик спустя минуту, словно звук к нему шёл с неизъяснимой высоты и наконец достиг человеческого слуха.
Он поднял ногу, приподнялся и долго стоял на первой ступеньке, привыкая к расставанию с землёй.
Мы немного устали его ждать и решили выпить самогона.
Разлили по грязным чашкам, заглотили, с пяти сторон покусали одну шоколадку на всех.
Девушки, переморгнувшись, ушли якобы в туалет.
«Делить нас», – догадался я.
Мы снова выглянули в окно, Рубчик уже был на третьей ступеньке.
Когда я посмотрел вниз, затошнило с новой силою и едва не вырвало товарищу на голову.
– Слушай, – отпрянув от окна, сказал я братику уверенно и непреклонно. – Я не могу иметь дело с женщинами, которые питались псиной.
Братик, по-собачьи склонив голову, всмотрелся в меня.
– В Корее ты бы ушёл в монастырь, – сказал он.
– Не могу, и всё, – повторил я.
– Может, ты ещё от брата откажешься по этой причине?
Мне нечего ему было сказать, нечего…
Я налил себе ещё самогона, полную чашку, выпил залпом, качнулся и повалился на кровать.
Рубчик тем временем одолел ещё какое-то количество ступенек, добрался до второго этажа и, видимо посчитав свой путь завершённым, уверенно оттолкнулся ногами и упал с лестницы на спину в последний снежок. Лежал там, отчётливый и свежий, как самоубийца.
Вернулись весёлые студентки, сразу погасили свет, но мне уже было всё равно.
Меня стремительно несло в мягкую, пряную, влекущую темноту, где никто не мучит ранимых душ и не взрезает живых тел.
Кто-то присел на мою кровать, потрогал щёки.
Неизъяснимым образом я почувствовал себя хозяином не щёк, но пальцев – и тонкие пальцы эти ощутили брезгливость от неприветливого холода пьяного бледного мужского лица.
Рука исчезла – и я остался один.
– А чёрт бы с ними! – весело сказал братик.
Всю ночь мне снилось, что я плыву, и мачты скрипели неустанно.
Ранним утром мы проснулись вместе с братиком, одновременно. Он выполз из-под чьих-то ног и возле кровати с трудом нашёл своё нижнее белье среди разнообразного чужого. Ещё и приценился – держа в левой одни трусы, а в правой другие.
– Вот эти вроде мои, – решил, угадав по красным и буйным цветам собственную вещь.
Мы выглянули в окно. Рубчик по-прежнему находился в снегу. Возле него сидело и лежало несколько собак.
С ловкостью необыкновенной мы спустились вниз, собаки нехотя оставили тело Рубчика и встали, нюхая воздух, неподалёку.
Я ожидал увидеть обглоданное лицо, но Рубчик был чист, ясен, розов.
Братик присел рядом.
– Рубчик! – позвал он.
Друг его открыл глаза – прозрачные, как у ребёнка, даже небо в них отразилось светлым краешком.
– Ты живой? – спросил братик.
– Живой, – ответил Рубчик светлым голосом.
– Пойдём?
– Ну, пойдём, – согласился Рубчик.
Он поднялся и отряхнул налипший снежок.
– Мальчики, доброе утро! – сказал нам голос сверху и добавил, чуть снизив тон, как-то иначе, в новой тональности: – Валенька, привет!
– Ой! Ангелы! – выдохнул Рубчик, подняв светлые глаза.
Кареглазая, та, что гладила меня по голове, бросила нам три леденца.
– Вот вам! – сказала она весело, кидая конфеты одну за другой.
Все три поймал братик.
Мы стояли с Рубчиком задрав головы, с опущенными руками.
– Я там не был? – в слабой надежде спросил у меня Рубчик, кивнув на окно.
– Нет, никогда, – ответил я обречённо, словно речь шла о седьмом небе.
Медленно, на похмельных мышцах, мы пошли к автобусной остановке: пришла пора возвращаться домой.
– Как же так случилось? – светло печалился Рубчик. – Отчего же я не смог подняться по лестнице…
– Не жрал бы собачатину, всё было бы нормально, – укорил его я.
– Дурак, что ли, – ответил Рубчик равнодушно. – Какая к чёрту собачатина… Обычная свинина. Я у местной поварихи купил за две цены.
Ехали в свой город, касаясь лбами неизбежно грязных стёкол весенних периферийных маршруток, смотрелись в русские просторы. Никто не печалился, напротив, каждый улыбался себе: один – настигнувшей его щедрой на вкус и запах нежности, второй – чувству тёплого, последнего в этом году снега у виска, а третий – неведомо чему.
…неведомо, неведомо, неведомо чему.
Ботинки, полные горячей водкой
Было у меня два друга, белоголовый и черноголовый. Первый старше на семь лет, второй на семь лет моложе.
Первый звонил мне ночами и говорил всегда одно и то же:
– Когда ты соберёшься стреляться – набери меня, брат. У меня было такое, я тебе помогу. Думаешь, всегда будешь счастливым? Ты юн и зелен ещё. Пройдёт семь лет, и вставишь чёрный ствол в рот. Прежде чем большим потным ледяным пальцем шевельнёшь в последний раз, на спуск нажимая, вспомни, что я тебе говорил, и позвони.
– Обязательно, Дениса моя, как только вставлю ствол, сразу большим ледяным пальцем тебя наберу.
– И потным.
И вот я дожидаюсь своего часа, смотрю на телефон, трогаю пальцы, ищу в них ледяного пота.
Другой, младший друг, ничего не говорил, вскидывал насмешливые и всё понимающие глаза. Наклонял чёрную голову, я тихо смотрел ему в темя.
– …ну и как ты думаешь? – спрашивал он искренне, хотя сам думал лучше меня, зрение имел непонятное мне, видел редкие цвета и удивительные полутона.
– Я вообще не думаю, Саша, – отвечал я, и мы чокались, чок-чок, большими бокалами и маленькими рюмками, расставляя их на столе как шахматы, которые никак не могли съесть друг у друга, из чувства неиссякаемого благодушия.
Мы писали печальные книжки и, втроём, были самыми талантливыми в России. Но первый – старший, белый, и третий – младший, чёрный, друг друга не любили. Зато я любил их обоих.
Старший был буйный и бурный, рыдал и дрался, покорял горные реки, рвал ногтями широкую грудь. Не умел ни от чего отказываться, хотел и счастья, и славы, и покоя сразу – и не мог вынести и стерпеть ничего из этого.
Младший был яркий, звенел голосом, нёс себя гордо, и вся повадка его была такой, словно у него в руках – невидимое знамя. Младшему давалось многое, но он хотел ещё больше.
Утро началось с белым – после разлуки мы встретились в столице. У нас вышло по третьей книжке, и мы колобродили меж лотков, развалов, стендов, усилителей и микрофонов ярмарки, передвигаясь от одной закусочной ко второй.
– По пятьдесят? – предлагал я.
– По сто, – настаивал он.
– По пятьдесят и по пиву.
– Я не пью пива.
Он не пил пива.
– По сто и мне пива, – заказывал я.
К третьему кругу мы были плавны, как бутерброды, намазанные тёплым сливочным маслом. С нас оплывало, мы облизывались, подобно псам, съевшим чужое.
Впрочем, Денис был неизменно уверен, что всякий кус, доставшийся ему, заслужен им по праву.
Я, напротив, каждую минуту своей смешной жизни внутренне хохотал, восклицая: «Кто я? Откуда я взялся здесь? Зачем вы меня позвали? Вы всё это всерьёз?»