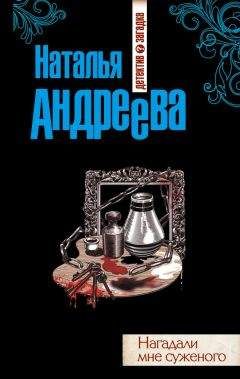Максим Гуреев - Покоритель орнамента (сборник)
Через несколько дней на могиле ноги была поставлена сварная пирамида с пятиконечной звездой наверху.
С Дерягиным мы познакомились во время хождения на Кондостров, что располагался в горловине Онежской губы при выходе в Белое море. Раньше на острове был Никольский скит, приписанный к Соловецкому монастырю, но в 20-х годах скит закрыли и передали его в распоряжение расстрельной команды Соловецкого лагеря особого назначения.
Теперь тут пусто.
Место мрачное, и рыбаки, выходящие за сельдью в Восточно-Соловецкую салму на сейнерах или «моторах», предпочитают здесь не швартоваться, разве что попав в шторм. Иногда сюда заходит пароход «Шебалин», следующий курсом Лямца – Онега.
В хорошую погоду Кондостров видно с материка, с мыса Глубокого.
В Онеге Дерягин работал на гидролизном и жил при нем же в общежитии – двухэтажном здании красного кирпича с замшелой шиферной крышей, деревянным рассохшимся и оттого скрипучим крыльцом, а длинные коридоры здесь были до половины выкрашены коричневой краской.
Под потолком круглые сутки горели лампы без абажура.
Батареи парового отопления урчали кипятком.
Уборные дышали хлоркой.
После того как все шесть соседей Дерягина по комнате друг за другом сели – воровали заводской спирт, – его выселили, и он был вынужден снимать угол в поселке Шалга, что рядом с гидролизным.
Строительство завода для производства спирта из древесной щепы и кормовых дрожжей было начато в Онеге еще в 1939 году, но с войной приостановлено и возобновлено лишь осенью 1945 года, а в сентябре 1954 года завод выдал первый спирт.
В Шалге Дерягин жил недалеко от железнодорожного разъезда на Покровское, где в 30-х годах заключенные разрабатывали каменоломни.
Как известно, каменоломни были и на Кий-острове. В те же 30-е в поселке Шалга, расположенном на живописной круче, с которой в ясную погоду был хорошо виден Кийостров и даже Ворзогоры, устроили традиционный для того времени парк культуры и отдыха для рабочих гидролизного завода и лесопильно-деревообрабатывающего комбината № 31–32. Здесь поставили павильоны, беседки, а также выстроили знаменитую на всем Онежском побережье лестницу на Шалгу – более двухсот ступеней.
Много позже такую же лестницу я увидел на Соловках, на Секирной горе.
Сейчас на Шалге все разрушено.
Парк заброшен, павильоны сгнили и рассыпались. На месте лестницы – оползень и гигантский овраг, появившиеся в результате забора песка прямо из-под горы для строительства железной дороги в каменоломни Покровского карьера.
Однако Дерягин любил гулять именно здесь. Подолгу сидел у самого обрыва, курил, всматривался за горизонт.
В Онеге у него жила мать, но приезжать к ней или жить у нее – дом стоял рядом с Лазаревским погостом – он не любил. А если и приезжал, то спешил уехать к себе на Шалгу до темноты. На заводе говорили, что он боялся чего-то. И это уже потом, когда работал связистом на линии Кянда – Нижмозеро, рассказал нехотя, отворачиваясь, покашливая, что на кладбище за церковью была похоронена нога красноармейца. И это было невыносимо…
Однажды, когда в доме матери отмечали сороковины по убитому брату, Дерягин, будучи в изрядном подпитии, все-таки решился пробраться на погост и отыскать проржавевшую пирамиду с пятиконечной звездой наверху.
Заводской спиртопровод, протянутый к загрузочным танкам-цистернам, с середины 90-х начали охранять с автоматами. Это была крайняя мера, потому что двойной кожух умельцы рассверливали и, вставив специальную разборную воронку, по внешнему контуру пускали грязную техническую воду, чтобы сливать чистый спирт. Раньше охрана здесь состояла из местных – заводских вохровцев, с которыми всегда можно было договориться. Теперь же спиртопровод охранял архангельский ОМОН.
Сверлить, как правило, ходили ночью, что и понятно. Брату Дерягина просто не повезло. Когда работа была уже почти закончена, по периметру спиртопровода совершенно неожиданно врубили прожектора.
Не надо было ему бежать, но он побежал по деревянному настилу вдоль кожуха, оступился и упал. Может быть, его хотели просто попугать, но оказалось, что в него разрядили целый магазин.
Когда Дерягин все-таки отыскал могилу, где была похоронена нога красноармейца, он тоже оступился, упал и тут же уснул мертвецки в кустах, ибо было тихо, довольно приятно, да и ветер отсутствовал в этой местности.
Люди, живущие на острове, знают наверняка, что у этой местности есть свой предел, свой берег, своя круча, сидя на которой можно воображать себе, что ты идешь по воде, достигаешь линии морского горизонта и даже переступаешь ее.
И вот они долго идут по морю на «Шебалине», спят на деревянных лавках, мерзнут, чувствуют недомогание, с удивлением и страхом обнаруживают, что не могут пошевелить онемевшими ногами, страдают от галлюцинаций, почитая их за видения, в которых все столь иллюзорно, печалуются, глотают кипяток из алюминиевых кружек, обжигаются, пока наконец на немыслимом отдалении не появляется плоский, утыканный полярным редколесьем берег. Однако им он не кажется таковым, но, напротив, горовосходным холмом, Голгофой, Гаваффой до неба, стеной кажется, отделяющей их бытие от небытия, ведь находясь на воде, ты как бы и не существуешь, потому как все здесь вершится по воле лесного царя Берендея.
И вот, когда у людей наконец наступает смертельная усталость от ожидания суши, лесной царь Берендей повелевает расступиться водам и явиться деревянному, обложенному лысыми автомобильными покрышками причалу.
Море расступается, и кособокий, устроенный на дубовых сваях-городнях пирс вырастает из дождевой мглы напоминанием спасительного ковчега, населенного разнообразными животными, которые всякий раз выходят из своих укрытий и кланяются вновь прибывшим на остров.
А еще на причале есть забегаловка, где подают беляши и горячий чай из титана.
Я хорошо запомнил полуподвальную забегаловку на углу Каланчевки и Красноворотского переулка с такими же беляшами и пропахшим известковой накипью чаем. Там еще рядом был магазин «Охотник», сквозь давно немытые окна которого на прохожих дико пялились чучела кабана, зайца, лисы, ондатры, волка и выкрашенного гуашью тетерева по прозвищу Берендей. Рассказывали, что этого тетерева-рекордсмена еще в середине 80-х привезли из охотхозяйства Завидово, чтобы передать в павильон «Птицеводство» на ВДНХ, но выяснилось, что у Берендея, так птицу почему-то называли завидовские лесники, нестандартный окрас, и его отбраковали.
Берендей обиделся, разумеется. Перестал токовать, но лишь издавал странный звук: «тррруу-трруу».
Потом долго не знали, что с ним делать, чем кормить, пока наконец Берендей не подавился двухкопеечной монетой и из него не сделали чучело, которое постоянно приходилось подкрашивать гуашью, так оно выцветало на витрине магазина.
Мимо витрины проходили люди, и их ноги отражались в мокром асфальте, напоминая при этом кривое танцующее редколесье, которым был покрыт остров.
Мимо окна забегаловки на причале тоже проходили люди. Это были вновь прибывшие на остров, они спускались с пристани по деревянным сходням, скользили, хватались за поручни, чертыхались и под дождем шли в поселок.
В видоискатель фотоаппарата попадали расплывчатые очертания монастыря, расчерченного летящими наискосок каплями дождя.
В запотевшем иллюминаторе «Шебалина» появлялось красное, со страшно вращающимися глазами лицо капитана по фамилии Павлов.
Из его рта шел пар.
Павлов запихивал в рот беляш и запивал его кофейным напитком.
Другой же беляш он заворачивал в газету и прятал в карман куртки.
Вытирал пот со лба, щерился.
На подоконнике забегаловки стоял трехпрограммный громкоговоритель «Маяк-202». Продавщица беляшей слушала прогноз погоды и думала, что если на острове зарядили дожди, то это надолго, недели на полторы, пока окончательно не смоет с раскачивающихся под порывами ветра ветвей пожухлую, резко пахнущую горечью листву и она не покроет пепельного цвета ледниковые валуны, не заклеит их полностью. Потом же, когда дожди перестанут, можно будет выйти во двор и здесь на веревке развесить сушиться белье, что будет хлопать на ветру по ночам, не давая тем самым спать.
Хлопки, как выстрелы расстрельной команды на Кондострове, как раскаты далекого грома, как глухие удары волн о дебаркадер.
Может быть, именно по этой причине сон на острове оказывался значительно более тягостным, нежели на материке, и как следствие – более чутким, более подверженным разного рода примышлениям. При этом из него не так-то просто было выбраться, находясь одновременно и на поверхности, и под толщей воды, той самой, что гулко и однообразно билась о дубовые сваи причала и дебаркадер.
Сон как будто наливает ноги и затылок свинцом, придавливает к деревянному свежевыкрашенному полу, кровати ли, свивает из разрозненных воспоминаний сеть, ячейки которой составляют целую колонию, целый витраж из цветных слайдов.