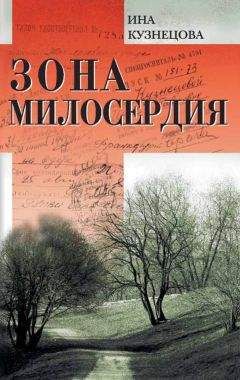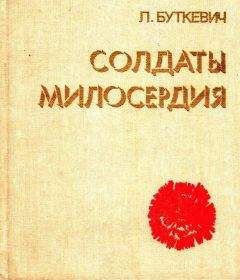Владимир Шаров - Старая девочка
В первый день Ежов, едва конвой ушел и Ерошкин, как и положено, записал его паспортные данные, сказал, что прекрасно знает, когда Сталин поставил на нем крест. Ерошкин для порядка спросил, когда, хотя и так было видно, что через минуту Ежов сам это ответит. Не заметив вопроса, Ежов продолжал: “Это было на заседании секретариата партии семнадцатого ноября прошлого года; я понял, что мне конец, когда Сталин назвал меня сатаной, а чекистов – моими подручными и сатанинским племенем.
Я к этому секретариату долго готовился, был убежден, что то, что предложу, действительно необходимо и стране, и партии, и революции, найдет оно и полное одобрение Сталина. Не может не найти, – подчеркнул Ежов. – Я тогда начал доклад с того, что покончить с Верой Андреевной Радостиной нам надо как можно скорее. Если мы в своей пропаганде говорим, что должны безо всякой жалости избавляться от каждого, кто мешает нам двигаться вперед, то Вера Радостина куда опаснее – она способна всех нас, всю страну увести назад, в проклятое прошлое. Я говорил, что если народ видит в Сталине своего вождя, который единственно верной дорогой ведет его в коммунизм, то Вера – это тот вождь, который, если мы его не уничтожим, вернет народ в мир чистогана и эксплуатации, в мир рабства и угнетения”.
До этого Ежов говорил очень хорошо, четко и внятно, но здесь поперхнулся, закашлялся и руками стал просить у Ерошкина воды. Ерошкин налил ему стакан, он выпил, но кашель унять не смог и сделался вдруг старым и жалким. Кашель тряс его и тряс, кровь прилила к лицу, и оно стало совсем красным. И всё равно он пытался говорить, словно чувствуя, что сейчас Сталин его слушает и, слушая, может простить, сохранить ему жизнь, а если он хоть на секунду замолчит, Сталин уйдет – тогда его уже никто не спасет. Ерошкин понимал, что Ежов говорит ему то, что должен был сказать на секретариате; тогда Сталин его сбил, и он не сумел собраться, всё смазал, теперь у него был последний шанс. То есть Ерошкину он врал, на секретариате он и десятой части этого не сказал, но Сталину он говорил правду, перед Сталиным был чист.
Прошло, наверное, не меньше десяти минут, прежде чем Ежов смог наконец унять кашель, успокоился. “Я говорил на том секретариате, – продолжал он, – что, если все люди, которым по узко эгоистическим соображениям не нравится то, что делается в СССР, пойдут за Верой, станет возможной отмена не только коллективизации, индустриализации, но и самой революции. По просьбе членов секретариата я стал им объяснять, как это технически будет происходить. Я сказал, что у каждого из нас есть воспоминания, и мы, идя от одного куска жизни к другому, станем отступать всё дальше и дальше в прошлое. Все мы живем в одной стране, в одно время, то есть большинство воспоминаний у нас общие, и ты, стоит только захотеть, каждым шагом своей жизни сможешь поддержать и подтвердить жизнь другого. Раз встав на эту дорогу, люди скоро уверятся, что идут правильно, то есть раньше они шли совсем не туда, куда надо, и всё, что они делали, идя так, тоже делать было ни в коем случае нельзя. Теперь ошибка исправлена, дальше всё будет хорошо. Этой своей страшной уверенностью они собьют с толку даже тех, кто по-прежнему хочет идти вперед, собьют даже искренних коммунистов”.
Может быть, говорил Ежов Ерошкину, его вина в том, что на секретариате он говорил чересчур эмоционально, но ведь и вправду положение критическое, промедление смерти подобно. “И я видел, – продолжал он, – что большинство членов секретариата меня поддерживают, тоже считают, что на эту опасность нельзя закрывать глаза”.
“Эта поддержка, – говорил Ежов, – сыграла со мной злую шутку. Я был настолько уверен, что со мной согласен и Сталин, что, пока говорил, ни разу на него не посмотрел, а когда наконец взглянул, поразился, насколько холодно он меня слушает. После секретариата я долго пытался понять, что в моем выступлении могло так ему не понравиться, и вот что теперь думаю. Из моих слов получалось, что человек по своей природе зол, любит и склонен к одному злу и, значит, никакое спасение невозможно. Он никогда добровольно не пойдет за Сталиным, никогда не пойдет за ним без принуждения, Вере же Радостиной никого даже не надо звать, каждый сам бросится за ней, будто малый ребенок за матерью.
Конечно, Сталин с таким взглядом на человеческую природу согласиться не мог, – продолжал Ежов. Конечно, он понимал, что после грехопадения в человеке живет зло, много зла, но, как бы ни был силен дьявол, каким бы сонмом чертей, прочей нечисти он ни окружил человека, и сам он, и зло живут только потому, что Господь им попустил. Дьявол не равен Господу и не может быть ему равен, думать такое – кощунство, ересь, неслыханное, ни с чем не сравнимое умаление Бога. Да, человек после грехопадения часто уклоняется во зло, его путь к добру непрям, то и дело он петляет, временами и впрямь идет назад, но это только временами. Раз Господь есть, рано или поздно человек обратится и будет спасен. Иного быть не может.
Дома, – говорил Ежов, – я наконец разобрался, чего хочет Сталин. Теперь я уверен, что понимаю его правильно. Сталину сейчас надо, чтобы всё и дальше шло так же, как идет, шло как бы само собой, никто со стороны вмешиваться в это не должен. Сталин, похоже, решил испытать народ: если он и вправду добр, то рано или поздно сам, без принуждения, выберет добро, пускай немного поплутав, но выберет, если же зол и любит одно зло, любит эксплуатацию человека человеком, то тогда он, Сталин, и дела с таким народом иметь не хочет…”
Наверное, продолжал Ежов, Сталин, как всегда, прав, однако иногда ему кажется, что Сталин чересчур хорошо думает о том народе, который ему достался, которого он вождь и поводырь. Сталину так хочется, чтобы этот народ был лучше, что он обманывает себя. В НКВД скопились тысячи и тысячи сообщений от сексотов, и из них ясно видно, как сильно на этот раз Сталин заблуждается.
Народ вслед за Верой, без сомнения, готов повернуть во зло, в прошлое, он уже начал собираться, начал готовиться в путь. Едва весть о Вере разнесется, едва люди узнают, что есть тот, кто поведет их назад, они не будут медлить ни дня. Так что, как это ни горько, он, Ежов, вынужден признать, что зло сильнее добра, и, если народ сейчас не остановить, не принудить к добру, завтра будет уже поздно.
Да, говорил Ежов, разгораясь и забыв, что ему надо думать об одном – как вымолить у Сталина свою жизнь. Он как будто всё это забыл, всё, что с такой тщательностью готовил, подбирал каждое слово, нанизывал их одно на другое. Только бы угодить Сталину, только бы снова сделать так, чтобы Сталин понял: в целом мире нет никого, кто был бы ему вернее и преданнее, чем он, Ежов. И вот он это теперь забыл и как будто обвинял Сталина. “Да, – говорил он, – я, конечно, обыкновенный практик, в теории я не силен. И не знаю, почему так, почему народ зол, просто вижу и понимаю, что было бы преступным легкомыслием закрывать на происходящее глаза. Сегодня мы больше не можем прятать голову в песок, не должны убаюкивать себя сладкими речами.
С мест, – говорил Ежов, – идет просто вал сообщений о том, что всё новые и новые наши граждане теряют уверенность. Пока, правда, никто из них не повернул, не пошел назад, но наивно думать, что это продлится долго. Если всё не пресечь прямо сейчас, не пресечь любыми средствами, любой кровью, завтра уже миллионы начнут тормозить, затягивать шаг, движения их сделаются неверными, они будут идти пошатываясь и словно в полусне, а потом постепенно, постепенно, как ни подгоняй, один за другим остановятся.
Это конец. День-другой они в нерешительности постоят, потопчутся, а затем повернут назад. Дальше они станут уходить, всё быстрее и быстрее набирая ход; дальше они понесут, как испуганные лошади, когда у возницы оборвались поводья, – их тогда уже ничем и никто не остановит, никто и никогда. Сколько ни зови, сколько ни проси вернуться, никто не услышит, даже головы не повернет…”
Ежов говорил Ерошкину, что, когда он это понял, он велел своему уполномоченному в Ярославле Клейману обложить Веру со всех сторон, установить за ней двадцатичетырехчасовую слежку, велел Клейману докладывать ему агентурные данные по Вере каждый день, немедленно и вне всякой очереди. Ничего больше без прямого указания Сталина он предпринять не мог, но понимал, что должен быть готов действовать в любую минуту.
“И вот, – продолжал Ежов, – неделю назад мне вдруг показалось, что Сталин больше не держит на меня зла. Накануне, во время одного из наших обычных застолий, он сказал обо мне теплый тост, назвал своим старым, преданным другом, и я решился на новую попытку.
Вечером я подошел к Сталину и сказал, что знаю, как можно обойтись с Верой безо всякой крови. Идея была Клеймана, но для пользы дела я приписал ее себе. Однако едва я упомянул Верино имя, Сталин снова помрачнел, тем не менее я не остановился, говорю: надо просто похитить ее дневник – это ведь и есть карта, по которой она идет назад. Память человека слаба: одно в ней путается с другим, месяц – и уже не вспомнить, что было днем раньше, а что днем позже. Когда она пошла в магазин и купила чулки, а когда в другом магазине купила сыр. И вот Вера начнет путаться, дни у нее станут мешаться, она то на несколько дней вернется назад, в прошлое, то снова день или два будет идти вперед, сама же по-прежнему будет убеждена, будет верить, что, никуда не сворачивая, уходит из этой жизни. И хорошо, и пускай, никто ей мешать не станет. Чем дальше она будет уходить, тем хуже помнить себя, значит, путаница будет нарастать и нарастать.