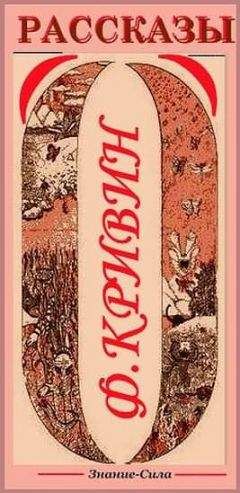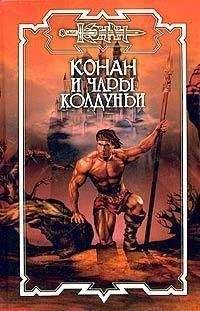Александр Солин - Неон, она и не он
Она повела плечами, освободилась от его рук, затем осушила платком слезы и сказала чужим голосом:
– Ты подлец, Максимов, и мне не нужны твои деньги, и сам ты мне больше не нужен. Ты трус и ничтожество и мне жалко тех лет, которые я провела с тобой. Я уйду, но знай, что ты еще пожалеешь об этом…
Она повернулась и ушла, стараясь держаться прямо, а он остался и глядел ей вслед, пока она не затерялась среди прохожих…
Вечером Наташа, пристально глядя нас него, сказала:
– Вы, Дима, сегодня какой-то озабоченный. Я бы даже сказала, невеселый!
– А, пустяки! – отмахнулся он. – Это оттого, что рынок дурит!
– Кстати, давно хотела вас спросить про этот ваш рынок. Что это такое и как на нем зарабатывают?
И он с напускным усердием принялся расписывать то невидимое глобальное чудовище, которое, являя людям лишь свой пульс, героиновыми пальцами зависимости держит мир за горло, бывая иногда щедрым, но чаще коварным и беспощадным.
– Теперь все на нервах, потому что ждут большой коррекции, – закончил он.
Она слушала его внимательно, а в конце пожелала ему быть осторожней и не нервничать.
– На войне, как на войне, – пожал он плечами, – а в финансовой войне мира не бывает.
Что же касается Ирины, то поразмыслив, он пришел к выводу, что по большому счету его устраивает любой исход. И даже если она захочет родить, он к тому времени уже успеет жениться на Наташе и найдет нужные слова (а тут он честен перед ней), чтобы объяснить ей появление внебрачного ребенка. Тем более, что к тому времени он уже побеспокоится о зачатии их собственного. Он рассказал обо всем матери и, снабдив ее инструкциями и деньгами, отправил на переговоры. О чем уж они говорили, неизвестно, но вернувшись, мать плакала и даже назвала его бездушной сволочью. Еще неделю она заходила к нему со всех сторон, пытаясь пробить брешь в его сердце и запустить туда ангелов чести, совести и долга, но все напрасно. Он твердил:
– Скажи ей, что если она захочет родить, я обеспечу ее и ребенка.
Вскоре Вера Васильевна объявила ему с темным лицом:
– Радуйся, изверг, Ирочка сделала аборт!
И он, посчитав, что с прежней жизнью покончено, вздохнул с облегчением.
37
В их сближении не было той навязчивой озабоченности, с какой устремляются навстречу друг другу современные особи противоположного пола, одержимые намерением проникнуть с черного хода в храм Венеры, разграбить его и, поделив добычу, договориться о новом налете. Горожанин до мозга костей, он был чужд манере городского хвата, требующей поместить женщину в кильватер своего эгоизма, где ее от волн и качки непременно бы затошнило. Она, со своей стороны, не торопилась заказывать обстоятельные острые блюда, пытаясь тонким чутьем проникнуть в его кулинарные способности. Повествуя ему мягким, хорошо поставленным голосом о милых, отвлеченных от ее особы пустяках, она словно изучала меню их возможного любовного пиршества. Неспешно отступая под его обходительным натиском, она находила его все более занятным и симпатичным и все охотнее следовала за его сюжетами и мыслями. Ее уступки его крепнущему вниманию не выражались числом расстегнутых пуговиц на блузке души, а касались времени, которое она ему уделяла.
Подходила к концу шестая неделя их знакомства. За это время они узнали друг о друге все, что полагается знать романтичной парочке, желающей поддать жару своим чинным отношениям. Иными словами, пора было переходить к острым ощущениям, однако его почтительность по-прежнему превосходила его нетерпение, не позволяя ему выходить за рамки дозволенного, пока она сама того не пожелает.
В субботу первого декабря они отправились в филармонию. Приехали на сорок минут раньше и, подняв воротники, полчаса гуляли по Невскому. К вечеру похолодало до минус шести, и он, покидая машину, украсил босую голову купленной в Стокгольме клетчатой английской кепкой, где на подкладке из шотландки под вензелями и гербом было помечено: «Made in Britain». Он испытывал к этой фасонистой старинной модели слабость еще с тех пор, когда в восемьдесят пятом купил у фарцовщика за десять рублей что-то подобное и потертое. В ней он представлялся себе заправским англичанином. Рядом с ним, прикрыв голову беретом и плавно покачивая бедрами под черным приталенным пальто, медленно шла она. Было безветренно, и стыдливо потупившиеся фонари, воздень они глаза к небу, не увидели бы там ничего, кроме оранжевой бездны.
В высоком, отполированном звуками зале аншлаг. В красных королевских креслах юбки, футболки, свитера, джинсы, записное музыкальное население и умудренные дети: сидят, ждут откровения и нечаянной фальши. Перед ними сцена, на ней рояль – черное хранилище лаковых звуков, куда возможно попасть, только введя сложную комбинацию нот. В лучах света, как в лучах славы появляется исполнитель – бывший наш человек, предпочитающий жить за пределами. Его авансируют аплодисментами. Тени великих занимают места в глубине сцены, и концерт начинается.
В тот вечер в числе прочего исполнялись прелюдии Рахманинова. Он не был силен в нумерации, но мог сказать – вот это он слышал, это тоже, а эту вещь знают все.
Вздыхают где-то колокола – тихо, строго, величаво, отдаваясь эхом в высоком чистом небе. Покоем и покорностью пропитан мир. Удел известен, порывы неуместны. Не нам решать, не нам решать, не нам решать… Но вот пробежала промеж ними дрожь несогласия, задела за живое, раскачала, возмутила, и пошли они гудеть, наступая и окружая, утверждая и возвещая. Или это мы приблизились к чему-то важному и сокровенному? Кажется, вот-вот откроется тайна, но колокола, обуздав порыв и раздумав откровенничать, стихают. Тает укрощенный смирением звук. Тает, тает, тает, пока его не подхватывают благодарные, прочувствованные аплодисменты…
– Супер! – растроганно восклицает он с увлажненным взором.
– Прелюдия номер два… – роняет она.
После короткой паузы следуют бурные, ликующие, срывающиеся пассажи. Крепкие, гибкие пальцы обрушиваются на клавиши, и звуки сыплются из распахнутого рояля словно цветные искры. Они подхватывают и возносят земную душу к неземному счастью, к обретению последнего смысла, к великой и вечной радости. В какой-то момент они, словно опомнившись, пытаются обуздать себя, обрести рассудительность, но счастье так велико, что сметает рассудок и отдает предпочтение безрассудству. Вот вам, вот вам, вот вам, благоразумные!!! В ответ музыкальный народ приходит в неистовство.
Аплодируя, она поймала себя на том, что слушает рассеяно: сегодня она, наконец, пригласит его к себе, а там как получится…
К десяти часам все кончено, истекли два часа душевного времени. Публика, настроенная пианистом на единый лад, покидает святилище, разнося по городу атомы сердечной гармонии.
Назад ехали минут пятнадцать, и весь путь он был оживлен и разговорчив. Она, напротив, молчала. Когда приехали, и он, проводив ее до подъезда, приготовился раскланяться, она опередила его и предложила:
– Не хотите подняться ко мне?
От неожиданности он смутился.
– Неудобно, Наташенька, поздно уже…
– Вы что, куда-то торопитесь?
– Мне кроме вас торопиться не к кому!
– Тогда пойдемте! – повернулась она и приложила к двери секретную кнопку.
Они покинули компанию осенних фонарей под ясным черным небом, вошли в гулкий подъезд и притихли перед лицом красноречивых обстоятельств. Попав на пятый этаж, они проникли в ее квартиру и замуровали себя металлической дверью. Он помог ей снять пальто и снял куртку.
– Это моя кошка Катька, – сказала она, махнув рукой в сторону кошки, что возникла перед ними, щуря сонные глаза. – Вот вам тапочки.
– Ах, какая чудная кошечка! – присев перед кошкой, откликнулся он, пряча смущение за радушным тоном. Должен ли он снять пиджак? Не услышав приглашения, он остался в нем.
Под ее громкие деловые реплики они пошли осматривать квартиру, которая оказалась весьма недурна. Она так подробно расписывала расположение и набор удобств своей жилплощади, как будто он явился по объявлению, чтобы снять ее. Миновав среди прочих одну из комнат, она махнула в ее сторону рукой и сказала:
– Здесь у меня спальная. Извините, не показываю – там бардак!
Он с замиранием вообразил мятую постель и брошенное на нее нижнее белье, пахнущее ее телом, и даже вообразил полное флаконов, спреев и тюбиков трюмо с зеркалом, как у матери. В гостиной он заметил на стене большую фотографию, на которой ее обнимал красивый мужчина. Касаясь головами, оба беззаботно и радостно смеялись. Он испытал ощутимый укол ревности и, вежливо улыбаясь, похвалил:
– Замечательная квартира, просто замечательная!
Потом они устроились на кухне, и она принялась собирать на стол. Он сидел, комкая руки и не зная, о чем говорить: небывалая робость одолела его. Заметив телевизор, он спросил, можно ли его включить – там сейчас должны быть новости.