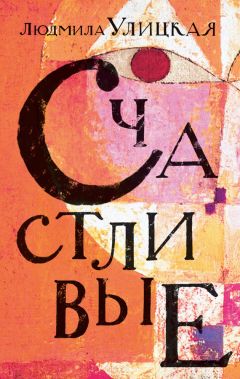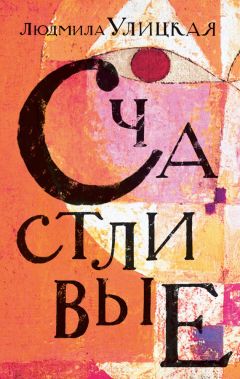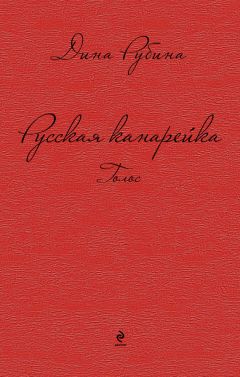Дина Рубина - Русская канарейка. Голос
Короче, все как полагается, а там видно будет. Спешить некуда, времени навалом, первый курс. Для этого незамысловатого паренька он скинул возраст на пять лет. Мог и на десять.
Деньги Иммануэля берег благоговейно: так Стеша перед походом на Привоз укладывала рубли-трешки в носовой платок, заворачивала конвертиком и подкалывала булавкой за изнанку лифчика. Леон снимал комнату в квартире еще с двумя духовиками-алкашами из Гродно. Блочная девятиэтажка на Звездном бульваре, мечта провинциала.
– Так. Еще раз спрашиваю у внезапно отупевшего: это вы пропели пассаж?
– Да-да… извините, Кондрат Федорович. Я уже ухожу.
– Стойте! Стоять, я сказал… Соблаговолите повторить! Ну, что уставились на меня, как баран! Я сказал: повторить пассаж!
Леон, недоумевая, пропел еще раз доминант-септаккорд, любопытства ради задержавшись на нем и даже чуть усилив звук.
– А теперь на тон выше. – Насупленные брови топорщатся, как небрежно приклеенные, бульдожьи брыли подрагивают, голубоватые мешки под пронзительными глазками (Барышня называла такие кошёлками) изобличают приверженность зеленому змию… И внимательно слушает, набычившись, склонив голову к правому плечу. Интересно, что ему надо? – Еще на тон выше!
Леон старательно и удивленно раз за разом раскатывал извилистую лестницу в небеса. Лестницу Якова, по которой всю ночь поднимались и спускались ангелы. Это было бы смешно, если б не доставляло такого удовольствия ему самому. И он «разгулялся», уже не думая о нарушенной тишине, раскатывая и раскатывая звенящие пассажи.
Ехидно-сосредоточенно глядя – не на Леона, а в окно, мельтешащее невесомым снежным пухом, – «Рыло» бормотал:
– Невероя-а-атно: еще и купол идеальный, судя по тембру… И чертовская природная эластичность. Так лихо-ровненько проскочить с микста на фальцет… а ведь такому научить почти невозможно!
Сурово кивнул на кларнет в руках Леона:
– Какой курс?
– Первый.
– Тэк-с. – Старик чуть откинулся, изучая Леона. – Слушайте, юноша. Слушайте и старайтесь запомнить. Сейчас я распишу вам вашу судьбу, и будь я проклят, если это не то, что вас ожидает. – Косматые брови внезапно вздыбились, глаза округлились от необъяснимого гнева: – Еще четыре года вы будете плевать в свою визгливую дуду, а затем зарабатывать эмфизему, просиживая штаны в оркестре, – кстати, не имея возможности лишнюю пару этих штанов купить! Зато на пенсию выйдете на целых пять лет раньше – если, разумеется, не выгонят или не сопьетесь.
Переминаясь с ноги на ногу, Леон машинально нажимал и отпускал клапан передувания: студент-провинциал благоговеет перед преподавателями, так что стой-переминайся. Встрять посреди гневной тирады неудобно, да и собеседник так колоритен, так напоминает одновременно и покойного Григория Нисаныча, и незабвенного Гедалью…
Достав из кармана колпачок, Леон прикрыл мундштук кларнета. К чему старик клонит, угадать невозможно.
– А между тем, юноша… Между тем вы носитель редчайшего дара! Ваши голосовые данные – алмаз, и до бриллианта ему совсем недалеко. Если работать, разумеется, и много работать. Часто пробуете петь?
– Бывает, – пожал плечами Леон. – Пел в хоре музыкальной школы, потом… Потом перевели в оркестр.
О своей короткой и яркой карьере в Оперном театре Одессы он решил промолчать. Разговор получался неожиданным, Леона будто встряхнули. А к чему нам волненья и страсти? Уймись, беспокойное сердце… – Первым дискантом пел?
Леон кивнул.
– Короче, юноша! – решительно резюмировал старик. – У вас явный и яркий контратенор. Хоть слышали, что это такое?
То ли потому, что старик так возвышенно произнес это слово, с рокотом в глубине, с приподнятым «э» на гребне (контрратэ-энор!), то ли потому, что диагноз поставил по нескольким пассажам, пропетым, в сущности, спустя рукава, играючи, Леон смутился. Все в нем всколыхнулось: его потерянный и необретенный голос, его ожидания, разочарования, странная «осторожная» ломка, словно природа не желала расставаться с мальчишеским тембром – текучим кипящим серебром…
– Но… это ж вроде, а я…
– Ах да! Ка-ане-е-шна! – Старик расхохотался саркастическим оперным смехом. Кажется, он просто не умел разговаривать нормальным тоном. Любая реплика у него звучала на неестественном подъеме, как «люди гибнут за металл!». – Да, конечно! Вот что мы знаем, вот что мы слышали: смешное и стыдное слово «кастрат». А вы, разумеется, полноценный мужчина. Какое невежество, молодой человек! – И вдруг закричал на весь коридор, отчего проходившая мимо студентка шарахнулась и помчалась прочь испуганной косулей: – В ножки мне валитесь, в ножки! В моем лице с вами судьба говорит! – И дух перевел, обеими руками прилаживая за уши вздыбленные остатки клочковатых волос. – Контратенор, юноша, – редчайший дар, подарок того самого упраздненного бога, и достается он, может, одному на миллионы!
Вцепившись в рукав свитера, бесцеремонно потащил Леона к самому окну, словно в белесом свете бурно повалившего за стеклом снегопада хотел как следует вглядеться в этот диковинный экземпляр. И действительно: вглядывался, изучал, рассматривал, поворачивая Леона и так и сяк; даже бесцеремонно пощупал ему шею жестом отоларинголога. И все время казалось, что он ужасно сердится.
– Думаете, римские папы не разбирались в музыке? Как бы не так! Именно католики первыми поняли, насколько пронизан грехом сам тембр женского голоса, как велико в нем плотское начало, как довлеет над ним детородный механизм, насколько не место этому дьявольскому искушению в храме! Дискант кастратов, они считали, быстрее достигнет ушей Всевышнего… Ах, улыбаетесь, невежда, вам смешно! Не могу видеть эту похабную, всезнающую улыбочку! – Кондрат Федорович не на шутку рассвирепел, хотя Леон всего-навсего любовался им, вспоминая своего Григория Нисаныча, забыв стереть с лица улыбку воспоминания. – Небось думаете, певцу-кастрату причиндалы отрезали целиком? – запальчиво выкрикнул он.
(О боже…)
– Так, дурачина вы этакий, готовили только евнухов для гарема! – гремел старик. – В цивилизованных странах мальчикам с чистыми сильными голосами делали небольшую операцию – перерезали сосуды, в крайнем случае раздавливали тестикулы.
(О боже, боже! Бегите прочь, случайные студентки!)
– Для Средневековья смертность была относительно низкой – процентов двадцать пять, не более… (Не более?!)
– Зато у выживших тембр голоса не менялся, а связки росли – вместе с легкими. И голос был фантастически сильный и бестелесный одновременно: так могли звучать лишь ангелы! Да-да, до весьма преклонного возраста эти певцы сохраняли регистр от тенора до сопрано, охватывали голосом четыре октавы, а объем легких позволял им держать ноту гораздо дольше обычных певцов. А теперь представьте: диапазон и длительность ноты плюс невероятная гибкость и пленительный резонанс голоса. Да они были богами сцены! Самыми влиятельными фигурами в опере! Больше, чем теноры, больше, чем primo uomo, prima donna!
Кондрат Федорович воздел руки и потряс ими чуть ли не в молитвенном трансе:
– Великий Моцарт преклонялся перед певцами-кастратами! Джованни Манцуоли давал ему уроки пения! Именно для Манцуоли Моцарт написал две свои первые итальянские арии – «Va, dal furor portata» и «Conservati fedele», и они ошеломляли красотой и необъятными возможностями голоса!..
Господи, да как он сохранил на своем лесоповале такой темперамент, такое поистине италийское горячее естество, из года в год глядя на дымные небеса и сизые снегопады? Как он вообще сохранился? Кто его прислал сюда, в этот закуток, в ту минуту, когда я слегка прохаркался…
Ловчик, вдруг подумал Леон, во все глаза разглядывая своего искусителя, освободителя и – предчувствовал – поработителя своего; он – ловчик, из тех, что отлавливали мальчиков, вроде моего прапрадеда Соломона Этингера, на нескончаемую рекрутчину и царскую службу… У Леона почему-то забилось сердце, и снег в окне, за спиной старика, повалил стремительней и гуще и казался ризами, укрывавшими всю его, Леона, прошлую жизнь. И вновь он слушал, не слушал, онемевшими пальцами перебирая клавиши кларнета, чувствуя только одно: вновь раздвинулся оперный занавес судьбы, и вот уже его выход, и партия выучена назубок, и разогреты связки, и голос рвется наружу: «Ca-а-а-аsta di-i-iva! Casta diva inarge-е-еnti…»
– Да, фигура у них, конечно, развивалась несколько женоподобная, но для знаменитых певцов – не только Средневековья и Ренессанса, но и эпохи барокко – это была относительно небольшая плата за славу, богатство и успех у дам. Да-да, молодой человек! Мужской механизм работал у них вполне исправно, среди дам высшего света было даже модно иметь интрижку с кастратом: ощущения те же, что с нормальным любовником, а нежелательных последствий никаких! Вы, конечно, понятия об этом не имели…