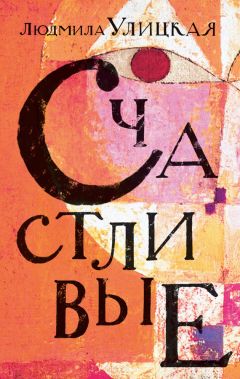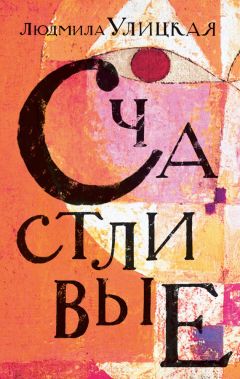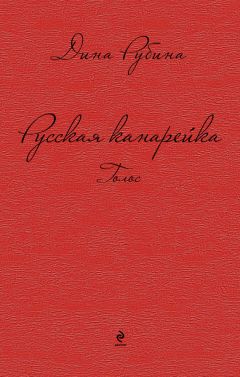Дина Рубина - Русская канарейка. Голос
– Гедалья! – подал голос Натан, легко постукивая по ручке кресла пальцами целой, не калечной руки, будто передавал коллеге и сопернику некое зашифрованное сообщение.
– Я думал, с твоими задатками, – не обращая внимания на позывные Натана, упрямо продолжал Гедалья, сверля своим набрякшим взглядом приспущенные жалюзи на окне, – ты пригодился бы и здесь. Откровенно говоря…
Еще парочка откровенно говоря, и его речь была, в сущности, завершена. Ни грамма откровенности между ними быть не могло.
Леон молчал, тесно сцепив сложенные на груди руки: не открывай никому левого бока.
– Ладно! – сказал Гедалья и вздохнул. – Я ничего не понимаю в музыке. Фанни – та понимала… Ладно! Езжай, учись, бог с тобой. Хотя, убей меня, не возьму в толк, почему не учиться дома. Но мы никого насильно не держим, это против наших правил. К тому же я не смог отказать Иммануэлю.
Вот и произнесено ключевое слово. Имя ангела-хранителя, скрюченного годами и артритом.
И когда Леон уже приподнялся – завершить, наконец, это мучительское расставание с прежней жизнью, Гедалья, тоже приподнявшись (неужели все-таки пожмет на прощание руку?), оперся о стол костяшками и проговорил:
– Вот и все. Тебе остается только сделать паспорт. Твой российский паспорт.
Леон дернулся чуть ли не инстинктивно – как от щупалец спрута, что тянулись к нему через стол. Вопросительно обернулся к Натану.
– Гражданство восстанови, – уточнил Гедалья. – Пока они лавочку не прикрыли.
– Я собираюсь учиться музыке, – сдержанно возразил Леон. – Всего лишь музыке. И под своим именем.
– А нам твое имя не мешает! – раздраженно прикрикнул Гедалья. – Имя подходящее, удобное. Кому надо – немец, кому надо – француз. А может, и поляк… А скорее всего, просто одесский еврей с заполярной историей.
– С какой?! – ужаснулся Леон.
– Пойдем. – Натан хлопнул его по плечу, поднимаясь. – Все объясню.
И в шварменной неподалеку, – с удовольствием, по-простому, двумя пальцами подбирая с картонной тарелки выпавшие из питы кусочки жареной индюшатины, – объяснил: тебе придется всего-навсего забыть об Израиле, где ты никогда не бывал. Погоди, не мотай башкой! Никто от тебя ничего не хочет, ты собирался отчалить – отчаливай. Но мы видим смысл в том, чтобы тебя немного «почистить». Вернешься ты или не вернешься – дело десятое, но нет никакого смысла для твоей музыкальной биографии волочить туда всю твою здешнюю жизнь. А Одесса…
– Да кто меня помнит в той Одессе?! Там умерли все, кто меня близко знал! Или рехнулись. Или разъехались.
– Ну, и отлично, и очень кстати… «Род проходит, и род приходит…» Да и ты их смутно помнишь. Ведь ты в девяностом уехал в Норильск, к своей бабушке Ирине, где и вырос, такие дела… Она жива еще, кстати? Превосходно. Смотайся туда недели на две, погуляй, подсобери воспоминаний. В Норильске тоже люди живут – и играют на кларнете. И ведут кружок в Доме культуры. В Москву прилетишь из Норильска, по своему российскому паспорту. Все это, разумеется, на светском уровне; глубоко зарываться в дебри этой легенды не стоит, времена не те. И не мне тебя учить, как там держаться. Не думаю, что ты будешь часто сталкиваться с земляками-норильчанами. Вряд ли кто уличит тебя в недоскональном знании городского транспорта…
– Для чего это все? – воскликнул Леон. – Для крючка?! Я же сказал, что хочу забыть обо всем. Натан! Я! Хочу! Забыть! – И жестко добавил: – Всех вас!
– Забывай на здоровье, – невозмутимо отозвался Калдман, отправляя в рот кружок лилового лука, но не донес, и тот упал на брюки, и Натан, чертыхаясь, принялся тереть пятно салфеткой. – Забывай! А когда чуток остынешь, поразмысли как следует. И сам поймешь, что новую жизнь – не только там, но и везде – лучше начинать с чистого листа. – Вытянул салфетку из салфетницы, аккуратно вытер руки. Вскинул на Леона свой знаменитый «всеохватно панорамный» взгляд: – На что тебе, кларнетист, все это хозяйство? – Широко повел рукой; и в щедро очерченное ею поле угодила и круглая физиономия продавца-курда, самозабвенно напевающего под нос восточную мелодию (при этом длинным острым ножом он срезал с бруса янтарной швармы тонкие ломти индюшатины), и подваливший к остановке автобус, откуда, белозубо хохоча, выпорхнули две девочки-эфиопки, и голенастая старуха в возмутительно мятых шортах и маечке, ведомая белым лабрадором на поводке, и трое велосипедистов, на лету оживленно перекрикивающих друг друга. – Отлично ты проживешь без всего без этого…
И хотя он ничего больше не добавил, Леон понял, что Натан имел в виду: и его полубезумную мать, и его армию, и странные последние годы, так много вместившие: охоту и риск, любовь и смерть, одиночество, ненависть, лицедейство, предательство… И милый дом, распластанный на горе.
И Меира с Габриэлой.
7…О, вот укромное местечко за углом от курилки, и никого нет – редкая удача! Можно чуть-чуть «подуть» перед уроком. Все равно скоро прогонят. Духовиков всегда шугают, уж больно бьет по ушам близко звучащая «дудка».
Леон раскрыл на облупившемся подоконнике футляр, извлек кларнет и вполсилы пробежал весь диапазон инструмента – от мертвенного «шалюмо» до ярчайшей свирели третьей октавы. За окном уже которую неделю висело войлочное небо, откуда с разной степенью щедрости сыпала ледяная крупа. Он приступил к долбежке паршивейшего места из первой части концерта Вебера: два легато, два стаккато. Горло с утра слегка заложено (никак не приноровится к этому климату), к тому же из курилки тянет ненавидимым запахом курева…
Он прокашлялся, прочищая легкие, и негромко пробежал голосом доминант-септаккорд, легко достав вторую октаву. Голос, как скакун, застоявшийся в конюшне, рвался вылететь на волю, еще, и еще, и еще выше…
– Минутку, юноша!
Ну, вот и все. Сейчас погонят.
Леон уже встречал в коридорах «консы» этого невысокого, но осанистого старика с въедливыми голубыми глазками под вздыбленными бровями. Преподаватель вокала. Его имени-отчества Леон не знал, фамилии тоже, только кличку, и та была выразительной: «Рыло». Его появление всюду сопровождал некий повышенный звуковой фон: то он ругался с кем-то, то на весь коридор нотации кому-то читал, то просто втемяшивал прописные истины в чьи-то подвернувшиеся под руку пустые головы. А уж когда рот открывал, спутать его было ни с кем невозможно: поставленный в «раньшее время» голос-не-тетка напряженного тембра, то и дело соскальзывающий в благородное негодование. Среди студентов (да и преподавателей) этот человек имел стойкую репутацию мизантропа. Ей способствовала какая-то легенда, которой Леон тоже не знал, так, слышал мельком, да и бог с ним – чужие дела: вроде совсем молоденьким начинал «Рыло» драматическим баритоном чуть ли не в Большом или в Мариинке, потом в пятьдесят втором загремел по какой-то политической статье и гремел до самого низа лестницы, где, поцапавшись с начальником БУРа, отсидел по полной концертной программе: и действительно, по концертной – в лагерях тоже была своя самодеятельность. Но северный лесоповал – не самое благоприятное для голоса место. Так что с певческой карьерой было покончено. А склочный характер не пустил выше должности старшего преподавателя.
Студенты-вокалисты не любили его за грубоватую прямоту, но сумевшие удержаться вспоминали потом с благодарностью: школу, говорят, давал отменную – ту самую, которой некогда славились Москва и Питер.
– Это вы сейчас пропели пассаж?
Грозный, однако, дяденька… А, вспомнил, почему «Рыло» – это от Рылеева. Но опять же, по непрямой ассоциации. Не фамилия Рылеев, а имя-отчество – Кондрат Федорович. Вот так.
– Спрашиваю: вы пропели пассаж?
Леон сокрушенно кивнул, ожидая гневную нотацию за нарушенный покой курильщика.
Сейчас незадачливый духовик задрожит и скроется в неизвестном направлении.
Для обучения и вообще для вживания в Россию он выбрал самый простой и расхожий образ: скромный провинциал-духовик, слегка ушибленный столицей, нам вашего не нужно, нам выучиться да и вернуться восвояси… Разговаривал он с легким уклоном в одесский говорок, сыпал тамошними анекдотами: знай нашу ах-одессугород-мой-у-моря, который никакой Норильск из человека не вышибет.
Ну и, конечно, простейшее чувство юмора: что вы хотите – духовик. И внешность: короткая, почти школьная стрижка полубокс и соответствующие шмотки, купленные на рынке у вьетнамцев (а все равно – дороговизна!).
Короче, все как полагается, а там видно будет. Спешить некуда, времени навалом, первый курс. Для этого незамысловатого паренька он скинул возраст на пять лет. Мог и на десять.
Деньги Иммануэля берег благоговейно: так Стеша перед походом на Привоз укладывала рубли-трешки в носовой платок, заворачивала конвертиком и подкалывала булавкой за изнанку лифчика. Леон снимал комнату в квартире еще с двумя духовиками-алкашами из Гродно. Блочная девятиэтажка на Звездном бульваре, мечта провинциала.