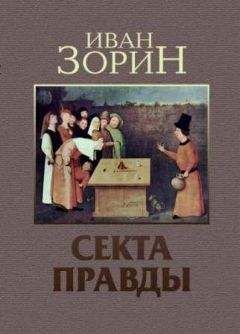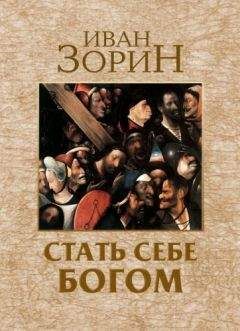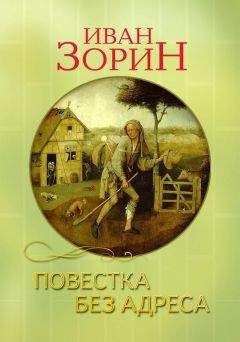Иван Зорин - Аватара клоуна
Проснувшись, Витька дрожал, уткнувшись в подушку, и слушал, как намаявшаяся за день дворняжка воет на холодную луну.
Сговора не было. Но спозаранку ушли прямо в застиранных до дыр, больничных халатах. Только прежде Витька посоветовался с Акимом. «Как фишка ляжет, – дёргал он бороду. – Но с вами не пойду – здесь каждый за себя…» А когда остался один, разложил пасьянс и впервые задумался, что когда-нибудь предстанет перед тем, кто укажет на ошибки, объяснив, почему карты на земле никогда не сходятся, как ни раскладывай.
Полковник жил на окраине. Долго ехали трамваем, громыхали колёса, гудели провода. По проталинам прыгали кособокие галки, и Витька, прищурившись, охотился на них каплей на стекле. Прохожих было мало, но у пивной уже размахивали кулаками. Один схватился за бутылку.
«Ох, не любим друг друга, – запричитал Пётр Прокопьевич, – ох, не любим…»
У полковника царил тот беспорядок, в котором ориентируются только холостяки. Среди хлама красивая, рослая женщина на карточке, взмыв на качелях – прочь от всего этого хаоса, – улыбалась ребёнку.
– Это после академии, – перехватил Витькин взгляд полковник. – Служба монотонная, дни, будто дятел стучит. Вот и женился. Глупо. А развёлся ещё глупее…
Он дёрнулся, будто от щекотки.
– Банальная история, – клевал носом философ. – Банальная история…
Полковник достал с антресолей старенький, почти игрушечный пистолет, обёрнутый ветошью. Опрокинув коробку из-под крупы, рассыпал по столу патроны, набил магазин, остальные, чтобы не катались, прикрыл газетой. Потом примерил отутюженный, висевший под клеёнчатым балдахином, мундир, наглухо застегнув пуговицы. «Как на парад», – не удержался Витька. Философ заглянул в его простодушное мальчишеское лицо, и в груди у него разлилось тепло:
– Не стоит втравливать парня.
– Только покажет, – мотнул головой полковник, заглядывая в ствол.
День пролетел, а ночью у философа шла горлом кровь.
– Пётр Прокопьевич, вам убивать приходилось?
– Нет.
– Но вы же военный.
– Штабная крыса.
В свете матовой лампы они были похожи на инопланетян.
– А, думаете, мы способны?
Голос философа звучал пусто и ровно.
– Спустить курок? Это не ножом ударить. – Полковник громко высморкался: – Хоть попробуем, прежде чем земля череп выест…
Утро предвещало быть холодным. Глухо барабанил дождь, за ставнями злобился ветер.
– А знаете… – Ивану Ильичу навернулась слеза, он смахнул её, притворяясь, что поправляет волосы. – Мне казалось, я предназначен для большего. Думал стать вторым Кантом…
Он уставился на тонкие запястья, на когда-то холёные ногти.
– Что делать, мир не мы придумали…
– И бездну над нами, и нравственный закон внутри…
– Чепуха всё это.
– Что?
– Нравственный закон. Я с рождения приказам подчинялся, а вы за место на кафедре тряслись… Интриговали?
– Интриговал.
– Вот видите. Только это для живых.
У Витьки заломили виски. Он стал принимать их за сумасшедших.
– А вы верите? – вдруг тихо спросил Иван Ильич.
– Верю, – также тихо ответил полковник.
– А как же «не убий»?
– Вы что же, и там допускаете земную мораль?
В тишине неотвратимо двигалась стрелка будильника.
– Пётр Прокопьевич… – философ запнулся. – Я вчера уговорил вас… но… – Он внезапно разрыдался, сотрясая худыми плечами, – сам я не смогу…
– Я знаю.
– Это не из-за…
Не договорив, он показал платок в запёкшейся крови.
– Знаю.
– И презираете?
– Помилуйте… Там каждый за себя…
Чахлый дождь, мшистое небо. Проплешинами темнеет снег, по канавам хохлятся воробьи. Хочется скомкать это мглистое утро, хочется дожить до весны!
Полковника шатало. Он то и дело замирал, прислонившись к фонарю. Витьке казалось, что они никогда не дойдут, а когда оказались на нужной улице, у него свело скулы. Он ткнул пальцем в номер дома, полковник шагнул в подъезд.
Бурый кирпич, засиженный слизняком. Витька забился под лестницу, пялясь на ветхую паутину, на разводы штукатурки с прочерченными углём любовными признаниями. «Врёшь, – думал он, – никто никого не любит».
А из-за двери отчётливо доносились голоса.
– Я за него отвечу… Полковник тяжело дышал.
– Заступник! – рассмеялся один.
– Ответь сначала за свои штаны! – поддержал другой. Но, видно, что-то заподозрили, предложили стул. «Сейчас будут морочить», – догадался Витька. Засопели, обдавая молчанием, точно кипятком.
– Давай разберёмся… Витёк под нами ходит, нам и спрос… Полковник не возразил. И это стало первой ошибкой.
– Он задолжал… Посуди сам, разве это справедливо? Витька знал эти байки о лукоморье – смущают словами, как глупую рыбу, ловят на блесну.
– Но к чему жестокость, он ещё молод…
У полковника запершило в горле. Он взывал к человечности, и это было второй ошибкой. «Не усовестишь!» – думал Витька. Он был как в бреду. И тут его пронзило: сейчас полковника свалят ударом кулака и будут бить даже мёртвого!
Он с криком шагнул за дверь, на ходу сунул руку в карман полковника. Комната была маленькой, его пули ложились в цель, и он не заметил, как ответная сразила полковника. Выплёскивая бешенство, он стрелял и стрелял – за себя, полковника, преданного отца, за безалаберную, неустроенную жизнь.
Когда Витька вернулся, философ был уже мёртв. Он лежал, вытянувшись на постели во весь свой огромный рост, и от него, как и при жизни, веяло какой-то детской наивностью. Он там, подумал Витька, где уже не помогает раскаяние. Потом медленно прислонил дуло к виску и выстрелил.
Игнат и Кондрат
«Каждый человек – писатель, он пишет своё житие невидимыми чернилами», – думал Игнат Трепутень, кусая гусиное перо. За слюдяным окном догорал семнадцатый век, Иван-колокол пугал ворон, а в Кремле, заглушая его, шептались по углам.
«Что страшно одному – другого не пугает», – продолжал размышлять Игнат. На площади чернели головы с пиками вместо шей, галдели птицы, вырывая друг у друга мёртвые глаза, и перья, измазанные запёкшейся кровью, сыпались на булыжник.
Игнат всего с месяц как сменил рясу на кафтан. «Послужи государю твёрдой рукой», – перекрестил его на дорогу игумен с высохшим от молитв лицом. У предыдущего писаря нос скривили клещи усов, а взгляд был такой острый, что хоть перо очинивай. Но на масленицу, проверяя глазомер, он высчитал глотками бутыль медовухи и допустил пропуск в титулах царя. От страха у него выпали волосы, хмель выветрился, а тень встала дыбом. Но с бумаги букву не вырубишь. Тараща медяки глаз, он уже видел, как точат топор. И, расплетя с перепугу лапти, стал вить верёвку. Но потом, растолкав стражу, удрал к шляхтичам, принюхиваясь к пограничным заставам, точно зверь. Он бежал, выскакивая из порток, и в Варшаву явился, в чём мать родила.
Звали его Кондрат Черезобло.
Вслед ему полетели грамоты. Их под диктовку думного дьяка выводил Игнат. Красивым почерком, за который его взяли из монастыря.
Изо дня в день Игнат прислонял букву к букве, макая носом в чернильницу. Он всегда держал её под рукой, а перо за ухом. В его замурованной келье едва поместился стол, на котором, переплетая пламя косичкой, денно и нощно чадила свеча. Игнат сидел на высоком стуле, болтая ногами над земляным полом, заслонившись от мира кованой дверью и ворохом бумаги.
А за Кондратовой душой явился государев человек.
– Не сойти мне с этой половицы, – топнул он каблуком, оттопыривая карман, из которого глядела тьма, – пока здесь не окажутся его кости!
В королевской свите спрятали ухмылки:
– Но ваш подданный ссылается на нехватку чернил… Оставалось расшибить лоб. Однако Москве упрямства не занимать, и посол гнул своё.
– Кондрашка умалил честь помазанника! – стучал он посохом, багровея, как рак. И пока анафематствовал, зашло солнце. – Впрочем, воля ваша, вам выбирать…
– А в чём же наша воля?
– Кол или виселица! Ему отказали.
Боярин выломал под ногами половицу и, унеся с собой, сдержал слово.
Однако домой он вернулся с пустыми руками. И это ему не сошло. Звали посла Чихай-Расплюев, а указ о его ссылке написал Игнат Трепутень.
Была ранняя весна, Кондрат брёл по нерусскому лесу, разглаживая седые колтуны мокрым снегом, и сочинял стихотворение:
ЧУЖБИНА
Чужбина. Чужбина, чужбина…
Чужбина, чужбина, чужбина…
Чужбиначужбиначужбина…
Пел ветер, скрипели сосны, и воспоминания уносили его в Москву. А там икалось Игнату. Он запивал икоту квасом, корпел над челобитными и, причащаясь, видел отражённого в чаше змия. «Повинную голову и меч не сечёт», – искушал он беглецов аккуратными ижицами и ятями. Ото лжи у него шелушился нос, и он соскабливал кожу ногтем.
А после спускался в подвал – смотреть, как, выжимая рубахи, трудятся до седьмого пота палачи.