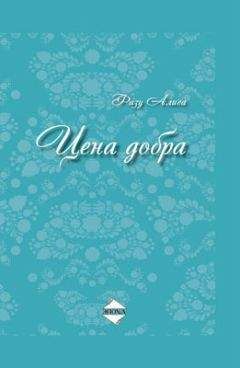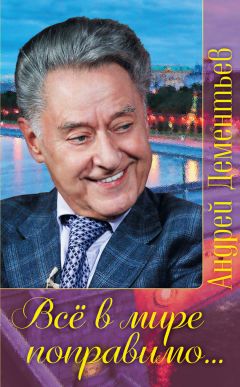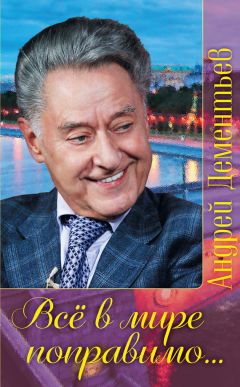Мария Голованивская - Нора Баржес
Этот вечер я приготовила для тебя, чтобы тебе наконец-то было уютно, – прошептала Риточка на ухо Павлу, когда газетчики и репортеры зачехлили свои приборы дальнего и ближнего наблюдения и переключились на корзиночки с вчерашним оливье. – Ты ведь достоин самого лучшего, ты знаешь об этом, Баржес?
Ему стало приятно. Ему стало сладко и липко. Ему досталось внимания ничуть не меньше, чем виновнику торжества, он рассказывал и комментировал, откровенничал и хохмил, да они друзья сто лет! Да он помог великому другу вернуться на родину! Да он всегда любил живопись и Кремера и никогда не стремился коллекционировать и вот теперь каждый может увидеть! И каталог он старался, он ничего не пожалел, ну, конечно, Кремер подарит что-нибудь музею, да, Петруха, ну, скажи, да?!!!
Риточка красиво стояла рядом с ним.
Ему было удобно держать спину, ему было приятно носить ее рядом с собой, на своей руке, под своим локтем.
После этого кошмара, – выдохнул он в ее ароматное ушко, пахнущее по последней моде, – нам надо отдохнуть, поедем куда-нибудь на недельку?
Это была фраза из фильма.
Миленький, – сказала Риточка, – миленький, как ты устал…
Это тоже была фраза из фильма.
Вернисаж клонился к закату, ценных гостей пригласили в ресторан.
Дозвонилась Нора.
Ей очень плохо, ей нужен доктор. Она просит скорейше вызвать ей неотложную помощь. Она не знает, где Валя, она с трудом дозвонилась.
Кто эта молодая леди рядом с нашим Баржесом?
Она тебе идет, – подмигнул ему Кремер, – сидит хорошо…
А как стоит! – Баржес в хорошем настроении, он насвистывает, как соловей, по дороге в ресторан. Риточка сидит рядом с ним в его пахнущем дорогой кожей авто.
Вызвать ей скорую помощь, бросить все, ехать домой, как было уже не один раз? И месить эту липкую и склизкую глину совместной жизни дальше?
Он вспомнил Другой город. Промозглые улочки, пустые разговоры. Или пройти сквозь этот момент, как сквозь скобу металлоискателя, чтобы улететь в другую жизнь? Вонзить, наконец, булавку в это тряпичное сердце? В чужое сердце, где живет вечная чужая, ядовитая для него тоска под названием чужая кровь.
Что у тебя было с моей женой? – внезапно спросил он у Риточки, коленку которой сжимал правой рукой, словно ручку коробки передач.
Черте что, – рассмеялась Риточка. – Искупление исполнить можно?
Она нежно обняла.
Она страстно поцеловала.
Она положила его руку на свой мягкий молодой живот, такой же обезжиренный, как и перевариваемый в нем йогурт, так же, как когда-то давным-давно, еще в пыльной мастерской Кремера, впервые сделала Нора.
Он не стал звонить врачу.
Он не стал звонить нориной маме, чтобы перепоручить ей эту заботу.
Он подумал о том, что должен освободиться, наконец, и даже мысленно подтолкнул ее к дверному проему, за которым сияло вечное солнце и не было никого и ничего – ни птицы, ни облачка, ни ветерка.
Норе тоже показалось, что там нет ни облачка, ни ветерка.
Она так просто приподнялась и прошла в другую комнату, а потом в третью, четвертую и пятую. И все, и весь переход. Туда, на ту сторону тела, на ту сторону улиц и городов, хлеба, пиццы, книги, дерева, зеркального небоскреба, в котором так сумасшедше отражается жизнь.
Ну, вот я и умерла, – подумала Нора, почувствовала Нора, обрадовалась Нора. Это оказалось так просто и знакомо: никакого волшебства и трагического театра. Она прошла по этой комнате, напомнившей ей что-то как будто виденное, поздоровалась с кем-то, сама не поняла с кем. Открыла форточку, поймала еще различающими свет глазами предутренние весенние зарницы. Что-то треснуло, словно чулки, и она шагнула в образовавшуюся щель, прошла по коридорчику, заставленному вчерашним хламом. Господи, как же все это естественно, – не переставала умиляться Нора. Она видела все время кого-то, как будто людей, кто-то ворочался, кто-то с жаром разговаривал, молодая ее мама – такая хорошенькая! – шила на зингеровской машинке, зажимая булавки с рубиновыми головками в углу рта. Хлопнула входная дверь, послышались голоса, крики.
Что же будет с Анютой, – мелькнуло у нее в голове, – с Анютой-то будет что?
То, что Нора вышла, ушла, промчавшись длинной тенью мимо дурно засыпающего дипломата, анализирующего свою простату, мимо вдовы почти что космонавта, утешающейся приготовлением бобового варева со свиной корейкой, ныне пожираемого стерилизованной необъятных размеров кошкой Пусей, мимо консьержки, дремавшей на собственной груди, уложив туда голову, словно в альков, первой заметила Валя, вернувшаяся в четвертом часу от Галины Степановны: когда кончились все фильмы и утроба больше не принимала ни чая, ни печенья.
Есть кто? – рявкнула Валя с порога, почувствовав в темноте квартиры нечто неладное. – Есть?
Включила свет в прихожей, раздавила ногой какую-то склянку с овальными капсулами, просыпавшими на ковер желтоватую пудру, которую пылесосить потом битый час.
Черт! – отрыгнула она какой-то зловонный душок. – Черт подери!
Я здесь, – отозвался кто-то из темноты, визгливо, пронзительно, словно это не склянка погибла под ее огромной сизой пяткой, а мышь. – Я здесь, здесь!
Господи, – воскликнула Валя. – Господи, помилуй! – Она заметалась по комнатам, зажигая везде свет, расшторивая окна. – Да шо же это такое, Нора Михална? Норочка Михална, вы здесь???
Подошла, увидела, закричала, у Павла номер выключен, Галина Степановна пришла, поморщилась, велела звать скорую.
Сидели с ней. Что-то откупорили.
Ну, забирать-то без Павла нельзя, никакую вещь нельзя выносить из дома без разрешения хозяев.
Потом констатировали какие-то осложнения и перитонит, можно было спасти, но спасение это спасение, только ангелы спасают, а для этого у них должно быть и настроение, и время, час суток, должно быть подходящим, лучше светлым, потому что частицы солнечного света играют в спасении не последнюю роль.
И, конечно, спасаемый должен уметь, даже расставаясь с жизнью, удерживать равновесие между землей и небом, между притяжением каждого из них, иначе душа его опрокинется в ту или другую сторону, и никакой ангел не сможет совершить над ним своего спасительного дела.
Риточка готовила мероприятие похорон. Такие заказы она не любила, но в ней была и дисциплина и воля, поэтому Андрюха с работы так ее и ценил.
Твой толстосум заплатит нам за работу, – там ведь и банкет, и выступления, и небольшой фильм можно снять на память, да? – интересовался он. – Я понимаю, это не фальшивый праздник, но нужно расширять диапазон, развивать сферу услуг!
Ну, конечно, заплатит, – вздыхала Риточка, – куда он денется, не будет же он сам возиться. Подожди, может, еще и выйду за него.
Эта идея Андрюхе нравилась: будет Риточка помогать ему находить хорошие фальшивые праздники для подготовки. Баржес-то, наверное, не оставит жену без дела?
Эта идея нравилась Нине.
Узнав о Нориной кончине, она расстроилась не очень, но пристроить Риточку, пока та сама не пристроилась к Кремеру, она была просто обязана. А то спелись на этой выставке, как голубки, даром, что голубки не певчие.
Я бы на твоем месте даже и не думала, – сказала Нина Баржесу, – извини, что нарушаю приличия и обычаи предков, говоря такое, – но жил ты – не позавидуешь как, а достоин ты самого лучшего. Молодая жена, да еще из провинции – лучше быть не может, послушай меня, я знаю, что говорю. И Анька твоя, которую теперь точно надо домой возвращать, тебе только спасибо скажет.
Аня плакала. Ей было страшно. Раз так, значит, и она однажды умрет. Оказывается, смерть совсем рядом ходит.
Она воображала видения.
Антонио утешал ее.
Они поехали на мотоцикле к лесному ручью, он включил музыку и, нежась в лучах милого солнышка поздневесеннего разлива, она всхлипывала и соображала, что теперь у нее есть особое право считать всех должниками.
А что ты можешь сделать для меня? – спросила она неопрятного паренька в продолжение своих мыслей.
Он ответил.
Она улыбнулась.
Баржес был возбужден, Баржес был счастлив. Он все повторял запившему было Кремеру, что у Норы обнаружились сотни новых вещей – блузок, сапог, юбок, и он, разбирая их, вдруг понял, что Нора была имитацией, а не самой жизнью. Воплощением, а не оригиналом.
Эти копии не снашивают одежду и не пачкают трусов, у них другая задача, – до хрипоты доказывал Павел. – Вот так и Нора – ничего поношенного или смятого, все новое и всего – на десять, двадцать, тридцать жизней.
Ты рехнулся, – завывал в ответ Кремер, – тебе надо полежать в психиатрической клинике.
С Риточкой они понимали друг другу с полуслова, словно сообщники.
Вале видеть в Риточке возможную новую хозяйку нравилось: своя, понятная, хоть и молодая! Сладим!