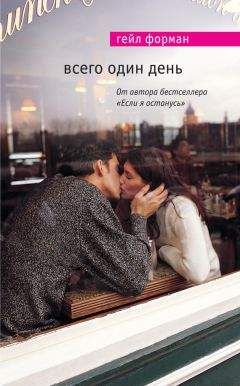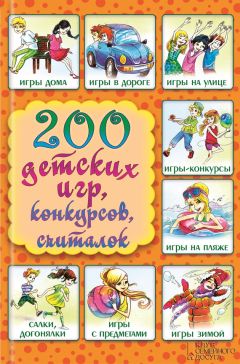Ина Кузнецова - Зона милосердия (сборник)
Страх и ужас и безнадежность отчаяния!
Но утолил безумный ветер сверлящую жажду разрушения, умчался, захватив своих приспешников. И утихомирилась морская стихия. И снова голубеет, светится и красуясь переливается в солнечных лучах морская гладь.
А душа человека? С ней тоже может быть такое? Конечно, но может быть и иначе!
Когда оторвавшись от своих блужданий, я вернулась в зал, конференция подходила к концу. Вскоре все разошлись по своим отделениям. Я пошла в операционную.
Жизнь продолжается!
Публичное извинение директора позволяло мне, не теряя собственного достоинства и самоуважения продолжать работу в институте.
Новый метод обезболивания был вполне освоен и уже приобретал черты рутинного. Около меня к нему постепенно приобщались и вновь приходящие доктора, и вскоре в Институте появилось новое самостоятельное операционно-анестезиологическое отделение.
Здесь собственно было бы вполне логично закончить повествование и поставить уверенную точку.
Но я этого не сделаю. Точно так же, как не сделала полвека назад, когда, разразилась эта трагическая история.
Внешняя сглаженность событий не принесла облегчения. Что-то очень близкое, болезненное и мучительно-трудное, а главное – совершенно непонятное продолжало будоражить и терзать мою душу. Я должна была понять, почему у Александра Ивановича вдруг вспыхнула такая бешенная, неукротимая, неконтролируемая, несвойственная ему злоба и ненависть. Должна же на то быть какая-то причина. Я обязана её найти. Для себя, для своего спокойствия, для общечеловеческой справедливости, наконец.
Александр Иванович был моим главным учителем не только в онкологии, но и в медицине в целом – в клинике, теории, науке, даже в менталитете врача (хотя это слово в те поры хождения не имело). Фаина Александровна Аренгольд в Скопинском госпитале была моим первым учителем, а он был главным. Моё уважение к нему было колоссальным. По диапазону клинического мышления, логике научных построений, всесторонней профессиональной образованности я не встретила ему равных. И это сочеталось с глубинным органическим уважением к больному.
По природе, то характеру он был авторитарен. Нетерпим, иногда резок. В спорах, в столкновениях, в оценках действий своих сотрудников железная логика как правило помогала ему в вполне вежливой форме доказать оппоненту, или провинившемуся, что тот сплошное ничтожество и уже по одному этому – неправ. Но за все годы моего пребывания в институте не было случая, чтобы его злость и откровенная ненависть так безудержно рвала все законы приличия, поднимаясь до степени прямого оскорбления. И всё это после открытого восхваления моих действий в течение полутора месяцев. Объяснений этому я не находила. И, как оказалось, несмотря на публичное извинение, простить его не смогла. Сам по себе этот факт: обвинить и не простить своего главного учителя – превратился в трудно переносимое самообвинение, из которого не было выхода. И, наконец, уже совершенно невероятным чудовищно-немыслимым оказалось то, с чем он сам всегда жестоко боролся, называя невежеством – это постулирование неподтверждённой медицинской истины.
Груз этих тяжелейших вопросов без ответа постепенно становился труднопереносимым. Жить с этим становилось всё труднее. Ждать помощи было неоткуда. Делиться своими беспросветными мыслями я могла только с мамой. Именно мама, как всегда в жизни бросила мне, барахтающейся в тёмной беспросветной пучине отчаяния, спасательный круг. Среди маминых нежных, ласковых и таких разумных слов утешения однажды прозвучала фраза: «Не забывай, что он тоже человек» – это касалось Савицкого. He обратив внимания на эти слова в момент разговора, я будто впервые услышала их, проснувшись среди ночи. Поразмыслив, искренне удивилась, что ни разу у самой не возникла такая простая, лежащая на поверхности мысль. Ведь во всех своих поисках, мучительных раздумьях я судила и осуждала профессора, большого учёного, директора крупного института. Из этой почтенной крупной компании совершенно выпал Савицкий – Человек. Человек со своими жизненными понятиями, склонностями, симпатиями и антипатиями, желаниями, обидами, вкусами, слабостями и увлечениями, уже далеко не молодой, не совсем здоровый и усталый. Но при этом удивительным образом сохранивший достаточный интерес ко всему новому, прогрессивному и не потерявший способности увлекаться и радоваться. Дунаю, что эти два человека в одном общем уживались друг с другом и существовали в миру. Но наверно бывали и эксцессы.
Именно так случилось в связи с его поездкой на международный конгресс хирургов. Савицкий-учёный немедленно по достоинству оценил увиденный новый метод обезболивания. А дальше действовал загоревшийся идеей Савицкий-человек. Он приобрёл оборудование, сам лично все наладил, быстро с совершенно молодой «ухваткой». По молодому наслаждался результатом сам и подогревал восторженный интерес своих гораздо более молодых докторов. И совсем по-детски, радовался успеху. И успех был. Александр Иванович в те недели пребывал всё время в отличном настроении. Казалось, увлекшийся Саницкий-человек заставил Савицкого-учёного забыть, что в хирургии бывают и неудачи – большие, маленькие и катастрофические.
И вдруг – эта страшная беда. И Савицкий-человек не устоял. Не выдержал тяжести случившегося, потерял ориентацию. Сломался. Савицкий-учёный – молчал. Савицкий-человек утратил самоконтроль. Он с бешенством искал виновного и кусался, как раненный зверь. До вскрытия оставалось всего полтора часа, но он уже не мог остановиться. Он выплёскивал в онемевший зал всё, от чего страдала его человеческая душа. Учёный потерял власть над человеком. Он даже не сумел остановить его, когда тот, охваченный яростью с необыкновенной легкостью вступил на шаткую почву ничем, кроме рассуждении не подтверждённого диагноза.
Эта картина, нарисованная моим воображением, подкреплённым достаточно убедительными рассуждениями представлялась мне тогда поразительно правдоподобной. А кроме того, и это было одним из плавных моментов, – она снимала с меня грех непрощения своего главного учителя.
Такие истории и переживания с ниш связанные, не забываются. Они идут с жизнью до конца. Но различно освещенные светом юности, средних, или преклонных лет они могут менять краски, тон, очертания. Сегодня эту историю я воспринимаю как и немногим более полувека назад. Только думаю, что прощения не было – просто вина перестала существовать.
19/VIII – 2008 года.Танго
Ольга остановилась у входа в хирургическое отделение и вышла из машины. Пятьдесят прожитых лет не отняли у неё ни лёгкости движений, ни явной женской привлекательности. Она торопилась и была сильно раздражена. Здесь вчера её стараниями крупные специалисты проконсультировали её мать, установили серьёзное заболевание, требующее немедленной операции. Но к себе больную не взяли: нет мест и налицо большая очередь. Настойчивую просьбу двух младших дочерей, сопровождавших мать, оставили без внимания. Ольга с возмущением убедилась, что в их большой семье, кроме неё никто ничего не может. Через своих друзей она добилась разрешения на встречу с заведующим отделения. И вот она перед его кабинетом, на двери которого значится его имя и все немыслимые звания. В ответ на её нервический стук раздалось короткое: «Войдите». Она вошла. В светлой комнате за большим письменным столом, заваленным бумагами, лицом к двери сидел крупный мужчина в белом халате. С лёгкой смуглостью его лица художественно контрастировала пышная седая шевелюра. Он что-то писал. Равнодушным взглядом скользнув по её фигуре, он ещё более равнодушным голосом произнёс: «Присядьте, я сейчас закончу», – и указал на ряд кресел у стены справа. Не привыкшая к подобному приёму, Ольга почувствовала, что градус её раздражения повышается. А он продолжал спокойно писать. Она старалась понять: он действительно торопится закончить важное дело или это умышленная демонстрация своей занятости – банальный приём защиты от назойливых посетителей? Ответа не нашлось.
Наконец, он кончил писать, поднял голову и, глядя то ли мимо, то ли сквозь неё, сказал: «Я вас слушаю». И тут Ольга уловила его еле заметный южный акцент. Преодолевая своё раздражение, усиленное более чем холодным приёмом, Ольга подробно рассказала о болезни матери. И настойчиво просила принять её в клинику для операции. Он слушал не прерывая. Но от неё не укрылось постепенно нарастающее недовольство на его лице. Ответ был категоричен: «Мои сотрудники поступили правильно. Они ввели меня в курс дела. Сейчас мы ее положить не можем – нет мест. А ждать – не может она, т. к. оперировать надо немедленно. И вдруг, словно устыдившись своей резкости, значительно более мягким тоном стал подробно объяснять, почему больную надо оперировать незамедлительно.