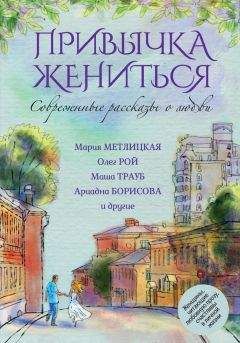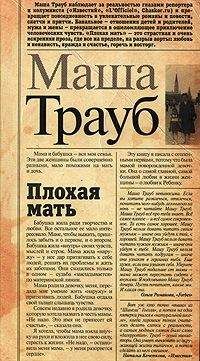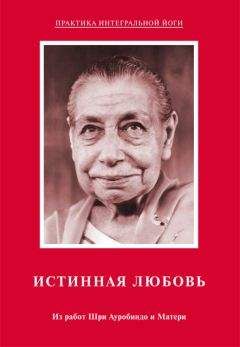Виктория Габышева - Любовь, или Пускай смеются дети (сборник)
– Леня, почему мне все время кажется, что ты меня обманываешь? – испуганно спросила мать. – Почему мне все время кажется, что ты играешь со мной?
– Паранойя, Вера, паранойя, тяжелое наследственное заболевание, – отец звонко поцеловал ее и засмеялся, – так что решили: еду с Колей в Сочи.
Расплющив нос о стекло иллюминатора, он не отрываясь смотрел вниз. Земля стремительно удалялась, и все на ней становилось маленьким.
Вот река, тонкая и синяя, как ленточка, вот поле с черным игрушечным трактором, вот дом – меньше, чем на картинке в учебнике, но главное – ни одного человека! Далекая нестрашная земля без людей, с синими реками. Колька почувствовал к ней жалость, словно перед ним открылось чье-то притворство. Всю жизнь он был уверен, что она огромная, и – вот, пожалуйста!
Вечером после ужина пошли к морю. Колька осторожно наступил на воду, и море сразу же сказало ему какую-то короткую громкую фразу, в которой было много шума. Потом замолчало, словно припоминая, и тут же повторило, только теперь внутри шума пронзительно прокричала чайка. На небе блестело размазанное желтое солнце. Море подымало к нему волны, как рукава без рук.
– Пап! – подпрыгнув, закричал Колька. – Вот это да! Пап!
– А ты думал! – весело сказал отец. – Это тебе не бассейн «Москва».
…Никогда его не заставляли мыть пол в девчоночьей уборной осколком разбитой бутылки. Никогда Скворушка не приходил к нему на рассвете, не запускал руку под одеяло, не шарил, тяжело дыша, потной ладонью по его животу. Не было ночи, когда из Тамарки вывалилась печенка и осталась лежать рядом с кроватью. Ничего этого не было. Его звали Коля Бабаев, а не Иванов, у него были отец, мать Вера и бабушка Лариса Владимировна, все они жили в большой прекрасной квартире с зеркалами, и сейчас он приехал к морю, в которое медленно опускается солнце.
Вот такая была у него жизнь.
– Коля, – сказал отец, когда они вечером лежали в кроватях и Колька почти уже спал, – я хочу тебе кое-что сказать.
Голос отца был странным: словно он не говорил, а крякал: Ко-лЯ, Я, хА-чу, скА-зАть.
– Завтра сюда приедет одна моя знакомая, – прокрякал отец, почти проглотив слово «мая», – будем отдыхать вместе. Веселее ведь, верно?
– Верно, – испугался Колька.
– Но я прошу тебя: не говори маме, что мы отдыхали не одни. Она у нас осталась работать там, в городе, в духоте, ей будет обидно. Понял меня?
– А мама не приедет? – спросил Колька.
– He думаю, – отец, наверное, сморщился в темноте, потому что слова сжались в трубочку, – не думаю. Понял меня? Ни слова о том, что к нам кто-то приезжал.
– Ладно, – сказал Колька, проваливаясь в блаженный сон, – не скажу я.
Во сне он увидел, как Скворушка чистит грязным ножом картошку. Картошка вскрикивала от боли. Из-под кожуры текла кровь.
– Слизывай! – орал Скворушка и подносил окровавленный комочек к его лицу. – Я кому говорю!
День прошел очень хорошо и весело. Много купались, обгорели, отец играл в волейбол с мускулистыми парнями, потом обедали, ели сливы с мороженым. В восемь часов вернулись в свою комнату, и отец переоделся в новые белые шорты и черную майку с изображением дракона.
«Во дела!» – про себя восхитился Колька, увидев дракона на его груди.
– Ложись спать, – не глядя на него, приказал отец, – ты сегодня набегался. А я пойду пройдусь, посмотрю, что и как.
Он плотно затворил за собой дверь и ушел. Колька с ногами взобрался на подоконник, чтобы увидеть, как отец выходит на улицу, но его не было. Колька подождал. Потом высунулся из комнаты. Коридор был пуст, все отдыхающие либо пошли на море, либо еще где-то развлекались.
«Куда ж он подевался?» – забеспокоился Колька и побежал на первый этаж.
На первом этаже висело зеркало и рядом с одной из дверей росла небольшая чахлая пальма в кадке. Колька пощупал ее волосатый ствол и вдруг услышал отцовский голос.
– У-у-х! – рычал отец, задыхаясь.
Колька замер на месте.
– Ну, говори: скучала? – прорычал отец. – Говори!
Никто не ответил. Отец тоже замолчал. Потом раздался женский смех, и отец застонал, словно его убивают. Колька в страхе рванул на себя дверь. Перед ним краснела голая отцовская спина, поджарившаяся на солнце, головы не было видно, она пряталась в чьих-то волосах, рассыпанных по подушке, а справа и слева от отцовской спины вздымались огромные белые ноги с огненными ногтями. Колька зажмурился и тут же услышал:
– А-а-а!
Из-под отца вылезла чужая женщина с горящими щеками и очень большим ртом, которым она пронзительно кричала:
– А-а-а!
Отец приподнялся на локте и обернулся. Колька его не узнал.
Отец был мокрым от пота, пот лил с него ручьями, и волосы на лбу стали кудрявыми и черными. Глаза без очков казались такими яркими, словно в них брызнули морской водой. Огромный, голый, молодой, кудрявый, он делал в кровати то, о чем Колька давно все знал, потому что любой детдомовец начиная с тринадцати лет делает то же самое и потом рассказывает мелюзге, вроде Кольки, что это такое.
Увидев его, отец стал темным, как кровь. Вскочив с кровати, он набросил на себя смятую простыню и, не говоря ни слова, вышвырнул Кольку за дверь, как котенка. С этого вечера все изменилось. Женщину, с которой отец делал то, о чем Колька давно все знал, звали Аллой Аркадьевной. Она была намного красивее матери Веры. Колька догадался, что Алла Аркадьевна была отцовской марухой и он поехал на море, чтобы жить с ней и удрать от матери. Колька же ему вовсе не был нужен, и, хотя отец ни одним словом не заикнулся о том, что случилось в комнате с пальмой, он начал явно тяготиться Колькиным присутствием и постоянно отсылал его от себя.
– Поиграй, Коля, – обходя его глазами, говорил отец, – с ребятами познакомься. Что ты все с нами да с нами?
Играть он не умел, потому что в детдоме не часто играли.
«Ребят» же в пансионате было немного, и никто из них не выражал желания знакомиться с Колькой. Оставалось море. Он входил в воду и, стоя в ней по горло, ждал волны, подпрыгивал, когда она приближалась к нему, и вместе с нею несся к берегу. Если бы в эту минуту его видели Козел с Самолетом!
Отец лежал на полосатой подстилке рядом с белой, как молоко, Аллой Аркадьевной. Все вокруг были черными и желтыми, только Алла Аркадьевна заворачивалась в полотенце, чтобы солнце не портило ее белизны. У нее были полные длинные ноги, и купальник – белый, с золотом на груди. Сквозь золото просвечивали черные виноградины сосков, а когда она выходила из моря, под животом тоже просвечивало что-то темное, на что, не отрываясь, смотрел его отец и к чему немедленно устремлялась его рука, как только Алла Аркадьевна, набросив на себя купальную простыню, ложилась на полосатую подстилку, спиной к солнцу.
Отцовская рука была жадной и очень горячей. Колька чувствовал ее жар, хотя между ним и полосатой подстилкой было не меньше метра. Закрыв глаза и нахлобучив на лоб кепку с оранжевым пластмассовым козырьком, отец лежал на спине. Левая рука его, свободно откинутая в сторону, вяло перебирала раскаленные скользкие камни, а правая была просунута под живот Аллы Аркадьевны и что-то там делала, двигалась, хотя никто на свете, кроме них троих – Кольки, Аллы Аркадьевны и самого отца, – не подозревал об этом. Алла Аркадьевна то вдруг начинала тяжело дышать, словно ее кто-то душит, то смеялась отвратительным легким смехом, словно ее щекотали, то приподнимала рыжую спутанную голову и шептала отцу: «Перестань, ненормальный!»
И опять падала лицом на подстилку. А отец молчал, хмурился, улыбался, постанывал и левой свободной рукой поправлял лежащую на нем развернутую газету. Колька сам не понимал, почему ему все время хочется вскочить, заорать, изо всей силы ударить по отцовскому животу, сорвать с него эту газету, которую тот все равно не читает, бросить в него большим гладким булыжником, серым от морской соли… Ему хотелось самому просунуть ладонь под ленивую Аллу Аркадьевну, потрогать черные виноградины ее сосков, шею, ложбинку между правой и левой горками на груди, поцеловать ее спутанные рыжие волосы, ее лицо – такое равнодушное, ослепительно-белое, с темными, как малина, оттопыренными губами.
Среди ночи он открывал глаза. Отцовская кровать была пустой, хотя ложились они в одно и то же время и оба сразу засыпали, измученные солнцем и морем. Значит, поспав немножко, отец тихонько, боясь разбудить Кольку, крался к двери, держа в руках свои пляжные шлепанцы, и потом бежал, несся – да, несся, потому что хотел скорее к ней! – скатывался на первый этаж, к двери с пальмой, за которой его ждала блещущая в темноте всеми своими буграми и горками, равнодушная к Кольке, ленивая женщина. И что потом? Потом они ложились в кровать.