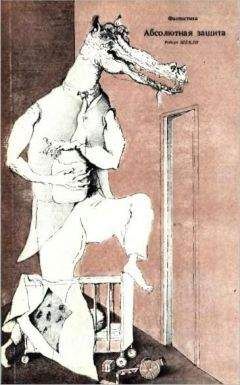Наринэ Абгарян - С неба упали три яблока
Мама протягивает мне бумажный кулечек с ладаном.
– Она на старом кладбище, там уже никого не хоронят. Потому положили здесь.
Я кидаю в металлическую чашу крупицы ладана, чиркаю спичкой. Мама раскладывает у подножия могильного камня чайные розы. Рассказывает так, словно не со мной, а с собой говорит: «Когда Нубар с Гарегином поселились в нашем городе, твоему папе было лет шесть. Он помнит, как они трудно жили, – еле концы с концами сводили. Но понемногу выправились, построили себе дом. Часто вспоминали Бостон, откуда уехали, когда после Второй мировой на короткое время открылись границы. Бросили все ради мечты о возвращении на родину предков. Молодые, красивые, чудом спасшиеся от резни дети.
Нубар родила поздно – в сорок два года. Спустя неделю от разрыва сердца умер Гарегин, оставив ее одну с грудным ребенком на руках. Она назвала его Тароном, в память о крае, откуда были родом их предки.
Он рос хорошим мальчиком, уверена, многого бы добился. Но за большой мечтой уезжают в большие города, а он позволить себе этого не мог, потому что не с кем было оставить пожилую больную мать. Устроился в фотоателье, научился играть на кларнете. Однажды, когда был еще маленьким, у него спросили, как называется штат, откуда приехали его родители. Он ответил, безбожно коверкая название, – Мачуча. С того дня его так и звали. Он не возражал, ему нравилось.
Ты, наверное, помнишь старую карту, которая висела в фотоателье. Это была карта Массачусетса. Как-то он признался твоему отцу, что мечтает улететь в Бостон, посмотреть город, где выросли его родители. Не успел.
Во дворе его дома жил рыжий пес, передвигался на передних лапах, задние волок за собой – во время бомбежки осколком перебило позвоночник. Раньше он жил на улице, заглядывал прохожим в глаза. Каждый думал – хоть бы кто-нибудь пристрелил его, чтобы не мучился, а сам подкармливал исподтишка. А Тарой вернулся с войны и забрал его к себе. Таскал, прихрамывая, на руках, когда тот совсем одряхлел».
Мама убирает поминальную чашу в нишу, оставляет там же бумажный кулечек с ладаном. Туман стремительно сползает с Восточного холма, шаг за шагом отвоевывая себе пространство.
Перед тем как уйти, я протираю его фотографию рукой. На ладони остаются грязные разводы. Он смотрит сквозь меня своими серебристыми, цвета ноябрьского неба, глазами.
Прощай, Мачуча. Прощай.
Хаддум
Старую Хаддум все так и называли – Старая Хаддум. Не из-за почтенного возраста – два года назад внуки с помпой отметили ее восьмидесятилетие, а из уважения. Старый – значит, мудрый. С датой юбилея вышла закавыка – в начале двадцатого века метрики детям, рожденным в ее каменной берберской крепости, выписывали сильно позже их рождения, а замученные бессонницей матери не очень помнили, в какой день и месяц они родили своего очередного ребенка, поэтому в ее свидетельстве стояла следующая запись: «Хаддум Лааллюш, пятая дочь Исмаила Лааллюша и Бушры Алауи, рожденная в сезон проливных дождей, на третий день месяца джумада аль-уля».
В паспорте, выданном пятидесятилетней Хаддум уже в послевоенные годы, значилась взятая с потолка дата 28 декабря 1903 года, но затеявшим юбилейное празднество внукам важно было вычислить правильный день рождения своей почтенной родственницы. Открутив в обратном направлении колесико лунного календаря и порывшись в архивных документах и вековой давности газетных статьях, они вычислили приблизительную дату. Если верить расчетам, случилось это 5 января 1905 года – на два года и восемь дней позже даты, указанной в метрике. И тут перед озадаченными потомками встал вопрос, когда же отмечать юбилей, потому что состояние здоровья Хаддум ухудшается, и есть большая вероятность того, что до настоящего своего восьмидесятилетия она не доживет. После долгих раздумий было решено отметить праздник по паспортной дате, но если Аллах позволит Старой Хаддум дожить до истинного ее юбилея, то можно будет отметить его еще раз, с неменьшей, а то и большей помпой.
Хаддум отнеслась к празднеству благосклонно, но отстраненно – даже не попробовала дорогущего торта из известной на весь мир французской кондитерской, который в специальной сумке-холодильнике привез из Касабланки внук Мохаммед – сын ее младшей дочери Наимы. Столы накрыли перед домом: натянули тент между финиковыми пальмами, растущими по углам выжженного беспощадным летним солнцем дворика, который даже зимой умудрялся пахнуть раскаленной глиной и дебело-пыльными по невыносимой жаре побегами опунции – Хаддум до сих пор помнила запах щетки, которой Большая Маамма снимала с ее игольчатых листьев кошениль, а из той потом добывала редкой красоты карминный цвет; блюд наготовили столько, что еды хватило на три дня – кончилась она аккурат к отъезду старшей правнучки, осмелившейся, не заручившись согласием прабабушки, приехать на празднество с молодым ухажером, светлоглазым егозливым французом, который, вместо того чтобы провести время в чинной мужской беседе за щедро накрытым столом, бродил по дому и, восторженно сыпля «манификами», щелкал на аппарат все, что попадалось на глаза. Даже мимо горшка для испражнений не прошел, так и норовил вытянуть его из-под кровати, чтобы сфотографировать при дневном свете. Еле отогнали. Впрочем, чего можно было ожидать от этого иностранца, с которым, судя по разговорам, собиралась связать свою жизнь правнучка Мириам. Беспардонности у иноверцев не отнять.
Все три дня столпотворения Хаддум провела у себя в комнате. Внуки с правнуками ее особо не беспокоили – заглянут с утра, чтобы поцеловать руку и пожелать ей доброго дня, и вечером – попросить благословения на грядущий сон. Говорили они на царапающем марокканском наречии, плохо понимая шуршащий берберский язык бабушки, потому общение сводилось к общим фразам. Зато много времени с ней проводили дочери и сыновья – сидели подолгу рядом, разговаривали о том о сем. Хаддум слушала вполуха, не потому, что пренебрегала общением, а потому, что знала – ничего нового они не расскажут, как наступали на одни и те же грабли, так и будут наступать. Ела она у себя в комнате, исключительно в одиночестве, считая процесс поглощения пищи на виду постыдным и унижающим чувство собственного достоинства. Мать рассказывала, что, даже будучи крохотным младенцем, она прекращала сосать грудь в тот самый миг, когда в комнату кто-то заходил, пускалась в жалобный плач и не успокаивалась, пока комната снова не опустеет. А с годовалого возраста она ела сама, спрятавшись ото всех в родительской спальне.
Помня об этой привычке Хаддум, дети покидали комнату, как только приходило время еды. Помощница по дому Зухра, замотанная в платок молчаливая рябая женщина, засидевшаяся в старых девах из-за обезобразившей лицо оспы, убедившись, что хозяйка осталась одна, приносила ей на подносе поесть. В пище Хаддум была нетребовательна и консервативна: на завтрак ей подавали неизменный мед с аргановым маслом, оливки, пшеничный хлеб в полбяной корке грубого помола и мягкий козий сыр, на обед – непременный суп и кускус с овощами, вот уже пятьдесят с лишним лет она не ела мяса, с того дня, как от тяжелой болезни умер Али. Завтрак и обед заканчивались традиционным марокканским чаепитием, Хаддум предпочитала пить чай без сахара, только заедала его крохотным миндальным печеньем. Ужинала она крайне редко, почти всегда ограничиваясь двумя приемами пищи. После обеда, если не было кусачей жары, выходила во двор, сидела подолгу под финиковой пальмой, кроша птицам остатки хлеба. Птицы поджидали ее на заборе, облепив его край щебечущей вереницей. При виде выходящей из дома Хаддум мигом срывались с насеста и неслись наперебой к ней, шелестя разноцветными крыльями. Хаддум садилась так, чтобы видеть острый пик возвышающейся над крепостью Лысой горы, которая, невзирая на густой лес, покрывающий ее склоны, умудрилась на самой своей верхушке остаться голой, как коленка, за что и была прозвана Лысой. Хаддум крошила птицам хлеб и не сводила взгляда с уходящей копьем в небеса горы – она знала каждый ее изгиб, каждую морщинку, каждую пещеру. Она уже восемьдесят лет наблюдала ее со своего двора, всякий раз выискивая что-то новое в ее облике, и не находила: железные деревья были так же высоки, как в ее детстве, каменные дубы – так же неохватны, кедры, взрезающие своими куполами желтое небо, так же неприступны, а зияющие темными зевами пещеры молчаливы и устрашающи, как провалы во времени, – нырнул, и уже не найти дороги обратно. Впрочем, что такое восемьдесят земных лет Старой Хаддум по сравнению с библейским возрастом Лысой горы, если не взмах прозрачного крыла стрекозы? Если кто из них и замечал перемены, так это гора, с холодным безразличием наблюдающая каменную крепость, за триста лет выросшую в ее подножии. На протяжении всех этих трехсот лет через крепость проходили караваны, увозящие в далекий Агадир, где располагались хранилища торговцев, драгоценные грузы: шелк, медь, пшеница, оливковое и аргановое масло, приправы, ковры. Они брели вдоль нижней кромки тысячелетнего леса Лысой горы, мимо поросших кустарником можжевельника и тамариска полей, через олеандровые, называемые здесь розовым лавром, луга – к песчаным берегам и оазисам низин. На протяжении всего пути вереницы навьюченных верблюдов сопровождали отряды берберских воинов-охранников, которые, сменяя друг друга, передавали их, словно эстафету, из рук в руки. За безопасность дороги вдоль подножия Лысой горы и до первых песчаных дюн отвечал отец Хаддум – мулаи[30] Исмаил. Он был высоким и плечистым великаном из старинного племени горных берберов, называемых аари[31] в честь местности, откуда они родом. Лысая гора была вотчиной аари – людей исполинского телосложения и удивительной нездешней красоты – золотистая кожа, огненно-рыжий отлив густых волос, голубые глаза. Женщины племени аари считались самыми красивыми невестами Среднего Атласа, а мужчины – желанными женихами для любой уважающей себя семьи. Правда, смешанных межплеменных браков в те годы не наблюдалось, а те редкие брачные союзы, которые случались, заключались исключительно для того, чтобы положить конец кровной вражде.